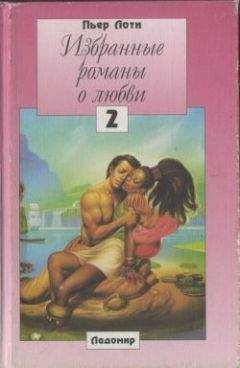Жан не удостоил ее даже взгляда. Подошел к Кура-н'дьяй и заплатил за жилье, предупредив, что больше не вернется; потом закинул за плечи легкий мешок и вышел.
Бедные старые часы. Отец говорил ему: «Жан, они немного староваты и все-таки очень хорошие, таких хороших теперь, пожалуй, и не делают. Вот разбогатеешь и купишь себе, если захочешь, модные часы, а эти вернешь мне; они со мной уже сорок лет, я приобрел их еще на военной службе, и, когда умру, если они тебе не понадобятся, не забудь положить их в мой гроб; они и там составят мне компанию…»
Кура-н'дьяй взяла деньги с обычным для нее безразличием старой, видавшей виды куртизанки, ни слова не промолвив по поводу внезапного отъезда спаги.
Очутившись на улице, Жан позвал своего пса лаобе, тот с явным неудовольствием уныло поплелся за ним, словно понимал, что произошло.
Не оглядываясь, Жан шел по улицам мертвого города по направлению к казарме.
Прогнав Фату-гэй, Жан испытал огромное облегчение. А уложив аккуратно в солдатском шкафу весь свой нехитрый скарб, принесенный из дома Самба-Хамета, почувствовал себя свободным и счастливым. Он счел это отправной точкой на пути к отъезду, к тому благословенному окончательному увольнению, которого оставалось ждать всего несколько месяцев.
И все-таки ему было жаль Фату. Он хотел послать ей денег из жалованья, чтобы помочь обосноваться заново или уехать.
Но так как Жан предпочитал с ней больше не встречаться, то поручил это спаги Мюллеру.
Мюллер отправился в дом Самба-Хамета к женщине-гриоту. Однако Фату, как выяснилось, ушла.
– Она страшно горевала, – рассказывали маленькие рабыни на языке волоф. Окружив Мюллера, они говорили все разом.
– Вечером она не стала есть кускус, который мы для нее приготовили.
– Ночью, – добавила маленькая Сам-Леле, – я слышала, как она громко разговаривала во сне, даже лаобе лаяли, а это дурная примета. Только я не смогла разобрать ее слов.
Ясно было одно: Фату ушла незадолго до рассвета и унесла на голове свои калебасы.
Макака по имени Бафуфале-Диоп, надсмотрщица над рабынями женщины-гриота, особа крайне любопытная от природы, следила за Фату издалека и видела, как та, по-видимому, твердо зная, куда идет, свернула на деревянный мост, переброшенный через небольшой рукав реки, и направилась в сторону Н'дартута.
В квартале полагали, что Фату, должно быть, решила просить пристанища у одного старого и очень богатого марабута в Н'дартуте, который восторгался ею. Впрочем, она и впрямь отличалась отменной красотой, так что, хотя и была кяфир, могла не опасаться за свою участь.
Какое-то время Жан избегал ходить в квартал Кура-н'дьяй.
Но вскоре перестал об этом думать.
Ему казалось, он вновь обрел достоинство белого человека, запятнанное близостью с черной; хмель прошел, и прежняя горячка чувств, распаленных африканским зноем, внушала ему лишь глубокое отвращение.
Свое новое существование Жан строил на воздержании и честности.
Впредь он собирался жить в казарме, как любой хороший солдат. Собирался откладывать сбережения, чтобы привезти Жанне Мери кучу подарков из Сенегала: красивые циновки, которые со временем украсят их дом; вышитые набедренные повязки, богатые краски которых наверняка приведут в восхищение односельчан, а у них в хозяйстве послужат великолепными ковровыми скатертями; но самое-то главное, ему хотелось заказать для нее у лучших черных мастеров сережки и крестик из чистого галамского золота. Она станет надевать эти украшения по воскресеньям, отправляясь в церковь вместе с Пейралями, и, конечно, ни у одной другой женщины в деревне не будет таких красивых драгоценностей.
Этот несчастный верзила спаги, такой важный с виду, вынашивал кучу ребяческих планов, лелея наивные мечты о счастье, о семейной жизни и смиренном благочестии.
Жану шел в ту пору двадцать шестой год. Но выглядел он старше, как это часто случается с людьми, которых закалила суровая жизнь на море или в армии. Пять лет, проведенные в Сенегале, сильно изменили его, черты лица стали резче; он похудел и покрылся загаром, заметна стала военная выправка, и, как ни странно, проглядывало что-то арабское; плечи и грудь его раздались, хотя талия осталась тонкой и гибкой; он надевал феску и крутил свой длинный черный ус с особым солдатским ухарством, и это ему чрезвычайно шло. Сила и поразительная красота Жана вызывали невольное уважение у тех, кто его окружал. С ним обращались иначе, чем с другими.
Художник вполне мог бы взять его за образец благородного обаяния и безупречной мужественности.
Как-то раз в одном и том же конверте со штемпелем родной деревни Жан нашел два письма, одно – от любимой матери-старушки, другое – от Жанны.
ПИСЬМО ФРАНСУАЗЫ ПЕЙРАЛЬ СЫНУ
«Дорогой сынок,
со времени моего последнего письма кое-что произошло, есть новости, тебя они, конечно, удивят. Но главное – не расстраивайся, следуй нашему примеру, сынок, молись Господу Богу и не теряй надежды. Начну с того, что в наших краях появился новый судебный исполнитель, господин Проспер Сюиро, он хоть и молод, но с бедными людьми чересчур суров, и у нас его недолюбливают, да и душа у него двуличная; но человек этот с положением, ничего не скажешь. Так вот господин Сюиро просил у твоего дядюшки Мери руки Жанны, и тот готов принять его в зятья. Как-то вечером Мери заходил к нам и устроил скандал; оказывается, он справлялся о тебе у твоего начальства, хотя нам ничего не сказал, и получил плохие вести. Говорят, у тебя там африканская женщина и ты оставил ее у себя, несмотря на запрет начальства, будто из-за этого тебя не производят в унтер-офицеры, и вообще слава о тебе идет дурная; да он много чего наговорил, сынок, я никогда бы не поверила, но это было в официальной бумаге, которую он показывал нам, и на ней стояла полковая печать. Потом к нам прибежала Жанна, вся в слезах, и сказала, что никогда не выйдет за Сюиро и ничьей женой не будет, только твоей, мой дорогой Жан, а не то лучше уйдет в монастырь. Она написала тебе письмо, которое я посылаю, там сказано, что надо делать; Жанна теперь взрослая и большая умница; поступай, как она велит, и немедленно напиши своему дяде. Через десять месяцев ты вернешься к нам, дорогой сынок; при хорошем поведении да с горячей молитвой Господу Богу все еще, глядишь, и устроится до твоего увольнения; хотя мы, как ты, конечно, догадываешься, покоя себе не находим и боимся, что Мери запретит Жанне приходить к нам, это будет сущим наказанием.
Пейраль целует тебя, сынок, вместе со мной и тоже просит поскорее написать нам.