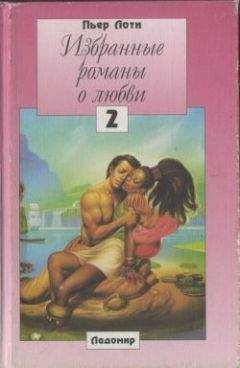IV
Меж тем Бубакар-Сегу, великий черный король, опять что-то натворил в Диамбуре[68] и в Джиагабаре. Судя по всему, готовилась военная экспедиция: об этом поговаривали в офицерских кругах Сен-Луи. В конце концов это стало обсуждаться во всех подробностях солдатами, спаги, стрелками и рядовыми морской пехоты. Каждый надеялся в результате получить либо повышение в звании, либо награду.
Жан, срок службы которого близился к концу, дал себе зарок искупить прежние прегрешения; он мечтал прикрепить к петлице желтую ленточку военной медали за отвагу, хотел навсегда распроститься с черной страной, совершив напоследок какой-нибудь замечательный подвиг, дабы имя его не забылось в казарме спаги, в том краю, где он столько времени прожил и столько всего выстрадал.
Между казармами, командованием морского флота и местной администрацией ежедневно шел торопливый обмен корреспонденцией. В расположение спаги поступали толстые запечатанные пакеты; вскоре предстоял, видно, серьезный и долгий поход. Воины в красных куртках точили длинные боевые сабли и чистили амуницию, подбадривая себя стаканчиками абсента и веселыми прибаутками.
Дело было в первых числах октября. Выполняя приказ, Жан бегал с самого утра, доставляя в разные концы города служебные бумаги, в довершение ему надлежало отнести в губернаторский дворец большой официальный конверт.
И вот на длинной узкой улице, такой же пустынной и мертвой, как любая улица в Фивах или Мемфисе,[69] он увидел в солнечных лучах другого человека в красном, размахивавшего каким-то письмом. У Жана сразу же возникли тревожные подозрения, смутные предчувствия, и он прибавил шагу.
То был сержант Мюллер с почтой из Франции, прибывшей час назад с караваном из Дакара.
– Держи, Пейраль, это тебе! – сказал он, протягивая конверт со штемпелем далекой севеннской деревушки.
Письмо, которое Жан ждал больше месяца, жгло ему руки, но он боялся его читать и решил сначала выполнить поручение, а уж потом распечатать конверт.
Ворота губернаторского дворца оказались открыты, и Жан вошел.
В саду – такое же безлюдье, как на улице. Огромная ручная львица с видом влюбленной кошки потягивалась на солнце. На земле возле жестких голубоватых алоэ спали страусы. Полдень, вокруг ни души, мертвая тишина на больших белых террасах, где застыла тень от желтых пальм.
Пытаясь кого-нибудь отыскать, Жан добрался наконец до какого-то кабинета, где увидел губернатора в окружении управляющих различных колониальных ведомств.
Там, как ни странно, кипела работа: в традиционный час послеобеденного отдыха здесь, судя по всему, обсуждались важные вещи.
Взамен принесенного конверта Жану вручили другой, адресованный командиру спаги.
Это был приказ о выступлении, который во второй половине дня официально будет передан всем войскам в городе Сен-Луи.
Снова очутившись на пустынной улице, Жан не мог удержаться и открыл конверт.
На этот раз он нашел в нем лишь одно письмо, написанное дрожащим материнским почерком, с оставшимися кое-где следами слез.
Жадно пробежав глазами строчки, бедный спаги, едва не потеряв сознание, схватился руками за голову и прислонился к стене.
Вручая конверт, губернатор сказал, что бумага срочная. Опомнившись, Жан с благоговением поцеловал подпись старой Франсуазы и, точно пьяный, ринулся вперед.
Неужели такое возможно? Значит, кончено, кончено навсегда! У него, бедного изгнанника, отняли невесту, невесту, которую его старики родители пестовали с детских лет!
«О бракосочетании уже объявлено, до свадьбы меньше месяца. Я так и думала, сынок, еще с прошлого раза; Жанна перестала ходить к нам. Но я не решалась писать об этом, чтобы не мучить тебя понапрасну, все равно ничего не поделаешь.
Мы просто в отчаянии. А вчера, сынок, Пейралю пришла в голову мысль, которая не дает нам покоя: вдруг ты не захочешь теперь возвращаться домой и останешься в Африке?
Мы оба сильно постарели; мой славный Жан, дорогой сынок, на коленях умоляю тебя: несмотря ни на что, постарайся быть благоразумным и возвращайся поскорее, ждем тебя не дождемся. Без тебя нам с Пейралем лучше сразу умереть».
Беспорядочные, сбивчивые мысли теснились в голове Жана.
Он торопливо сосчитал дни. Нет, еще не все потеряно. Телеграф! Да полно, о чем речь! Между Францией и Сенегалом нет телеграфной связи. Да и что он мог добавить к уже сказанному? Если бы представилась возможность уехать, бросить все и уехать на каком-нибудь быстроходном корабле, тогда он успел бы добраться вовремя; бросившись с мольбами и слезами к ногам дяди, можно было бы, пожалуй, тронуть его сердце. Но из такой дали… Надеяться не на что! Все свершится, прежде чем до Севенн долетит его отчаянный крик.
Жану казалось, что голову сжимают железные тиски, а на грудь навалилась страшная тяжесть.
Он снова остановился, чтобы еще раз перечитать письмо, потом, вспомнив, что несет срочный приказ губернатора, сложил листок и двинулся дальше.
Вокруг царила знойная полдневная тишина. Старинные дома в мавританском стиле, с их молочной белизной, вытянулись в строгую линию под яркой голубизной небес. Иногда за кирпичными стенами можно было услышать жалобную, дремотную песню негритянки либо, проходя мимо, увидеть на пороге спящего на солнцепеке голышом, с выставленным вперед животом и коралловым ожерельем на шее, черного-пречерного негритенка, отметив мысленно это темное пятно посреди слепящего света. На ровных песчаных улицах гонялись друг за другом ящерицы, смешно покачивая головой и вычерчивая хвостом бесконечную, фантастическую путаницу зигзагов, не менее замысловатых, чем арабская вязь. Из Гет-н'дара доносился далекий, приглушенный горячими, тяжелыми слоями полуденного воздуха стук пестов для кускуса, не нарушавший, однако, тишину своей размеренной монотонностью…
Спокойствие изнемогающей природы лишь усиливало страдания Жана; оно угнетало его, словно физическая боль, давило, будто свинцовый саван.
Африка показалась ему вдруг огромной могилой.
Спаги пробуждался от тяжкого пятилетнего сна. В душе зрело возмущение против всего и вся!.. Зачем его оторвали от родной деревни, от матери и в лучшие годы заживо погребли на мертвой земле?.. По какому праву из него сделали совершенно особое существо, именуемое спаги, вояку, ставшего наполовину африканцем. Он несчастный отщепенец, всеми забытый, покинутый невестой!..
Сердце его полнилось безумной яростью, но плакать он не мог; хотелось наброситься на что-то или на кого-то и раздавить в своих могучих руках…