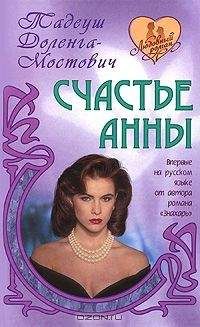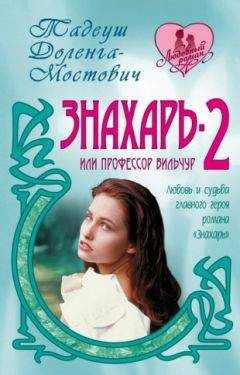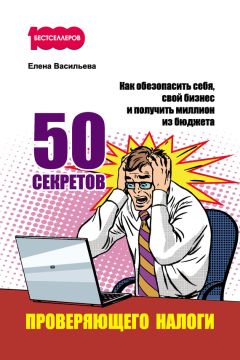— Твоя мать о самых ничтожных вещах говорит тоном проповедника и с такой уверенностью, что любое возражение выглядело бы не высказыванием иного мнения, а дерзостью.
С братом отношения Ванды не изменились, а точнее — просто не было никаких отношений. Она считала Кубу добродушным глупцом, он, в свою очередь, не скрывал, что сестра до некоторой степени истеричка. Когда время от времени кто-нибудь из знакомых показывал ему статью Ванды (сам он читал только сообщения о сенсационных процессах и криминальную беллетристику), он активно выказывал недовольство, кричал, что «это черт знает что», и появлялся у сестры с видом старшего брата, который пришел ее вразумлять:
— Так что у тебя слышно? — холодно начинал он, хмуря брови и грозно посматривая в окно.
Ванду это забавляло, и она говорила:
— Я рада тебя видеть. Мне как раз хотелось узнать, как обстоят дела с моей рентой. Где-то у меня, кажется, записано, что ты уже задолжал за четырнадцать месяцев.
Тогда Куба начинал жаловаться па тяжелые времена, на то, что все воруют, что налоговые органы просто с ума посходили, и собирался уходить. Прощаясь, снова хмурил брови и примирительным топом говорил:
— А ты, Вандочка, знаешь… ну, ты не это… Зачем тебе?
— О чем ты?
— Ну, ты пишешь…
— Тебя прислала мама?
— Что, опять! — возмущался Куба и поспешно добавлял: — Успокойся. Сделай это для меня.
— Почему для тебя? — спрашивала она с безжалостной наивностью.
— Ну… потому что вообще… Хотя поговорим об этом в другой раз. Сейчас я страшно спешу.
И выходил как можно скорее, а спустя несколько дней Ванда узнавала у Жермены, что Куба, вернувшись домой, торжественно заявил.
— Был у Ванды и поговорил с ней.
— И что она тебе сказала? — недоверчиво спрашивала Гражина.
— Мне кажется, что в ней заговорило благоразумие.
На этом начинались и заканчивались отношения Ванды с Польной улицей. Что касается Жермены, то она не поощряла, но и не осуждала деятельность Ванды. Она не читала ее сочинений, так как на это у нее не было времени, а, встречаясь, ограничивалась несколькими фразами или представлением Ванде какого-нибудь молодого человека, который «обязательно хотел познакомиться с известной пани Щедронь». Кроме того, Жермена не чувствовала себя членом семьи Шерманов и, кажется, всегда рассматривала ее как временную остановку во время путешествия. Сейчас она разводилась с Кубой из-за кого-то иного, и в «Колхиде» придумали шутку:
— В венах пани Жермены течет кровь спортсмена: она сама стала переходящим кубком.
— Да, — язвительно усмехнулся Калманович, — только каждый очередной завоеватель этого кубка слишком поздно убеждается, что это бочка Данаиды.
— Что? Как это? В каком смысле? — интересовался Шавловский, который везде усматривал двусмысленность.
— В материальном. Как ее следует оценить, узнает лишь тот, кто ее потерял: только после этого сыплются счета для оплаты.
— Ах! — безразлично махнул рукой Шавловский.
— Женщины тратят много денег, — сенсационным тоном заключил Ян Камиль Печонтковский.
К разводу брата Ванда относилась с самым откровенным и искренним безразличием. Она знала, что Жермена разоряла Кубу, хотя была убеждена, что любая другая женщина, которая решится стать его женой или любовницей, может сделать это только с той же целью. Куба, унаследовав от отца мягкотелость, вовсе не унаследовал умственных способностей к ведению дел. Поэтому рента Ванды оставалась под знаком вопроса, и Ванде ничего не оставалось, кроме молчаливого ожидания. О получении какой-либо значительной суммы в существующих условиях не могло быть и речи. Вмешиваться через своего адвоката она не хотела. Хотя отказываться от доходов она не любила и оперировала ими очень ловко, но в то же время предпочла бы все потерять, чем допустить процесс с братом. Здесь не о Кубе шла речь, а о вероятности того, что ее заподозрят в излишней заботе о своих деньгах. Она знала, что может услышать:
— Естественно, заговорила раса. Евреи всегда должны поссориться из-за денег.
А Ванда любой ценой стремилась сохранить мнение о ее полном безразличии к земным благам. Может быть, и действительно это мнение было обоснованным, так как никто не сомневался, что содержанием ее жизни была умственная работа. Более того, каждый знал, что Ванда Щедронь никому не отказывала, кто обращался к ней с просьбой одолжить деньги. Сама манера одалживать тоже заслуживала внимания. Ванда показывала свою сумочку и говорила:
— Пожалуйста. Там у меня, кажется, столько-то. Возьмите, сколько вам нужно.
И она даже не смотрела, сколько взяли. Однако после возвращения из «Колхиды» она считала оставшееся содержимое сумочки и в маленькой записной книжке отмечала: «Колманович 14 марта — 20 злотых». И делалось это не для чего иного, как просто для порядка. Случалось, должники отдавали, и тогда она их вычеркивала в книжке. Чаще же они не возвращали и тем самым не обращались за новой суммой. Но никому из них и в голову не приходило, что Ванда записывает эти мелочи, та самая Ванда, которая как-то сказала:
— Бедный Помарнацкий, проиграл на бегах триста тысяч или тысячу триста, не помню, но много.
Это высказывание долгое время передавалось из уст в уста. В действительности у Ванды не было материальных проблем. Значительный капитал был хорошо помещен, муж зарабатывал прилично, она сама тоже, а дом, несмотря ни на что, она умела вести экономно, не затрачивая на это ни много времени, ни особого труда. Просто это было у нее в крови. Проходя по улице и разговаривая о самых серьезных общественных проблемах, упиваясь анализом какой-нибудь новой философской системы или анализируя ценность литературной работы, она умела, не прерывая дискуссии, заметить, что яйца на улице Ординатской, 5, на два гроша дешевле, чем на Свентокшисской, а у Вардасовой цветная капуста не по тридцать грошей, как записано в счете Марцыси, а только по двадцать пять. На следующий день, прежде чем пойти в редакцию, во время пятиминутной аудиенции с кухаркой, она делала короткое замечание: