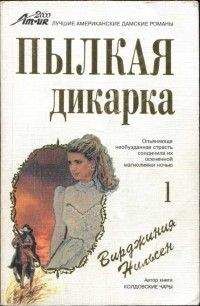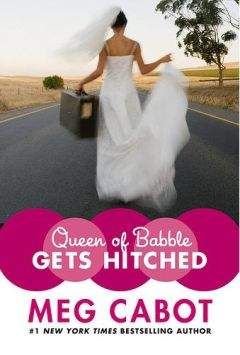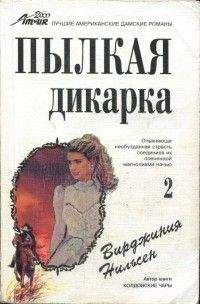Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Клео считала его самим совершенством, он казался ей на голову выше ее отца и всех окружавших ее там, на болотах, мужчин. Она верила, что его любовь к ней была такой же чистой, такой же всепоглощающей, как и ее любовь к нему. Теперь вера ее была разбита.
Она помнила, как разозлилась на него в тот первый день, когда он бросил ее после приезда в Новый Орлеан, оставив ее наедине со всеми ее заботами в этой новой, незнакомой для нее, поразившей ее обстановке чужого города. Клео чувствовала себя униженной из-за того, что раньше не догадалась, почему он опасался показываться с ней на людях.
— Ты знала, что мы не сможем заключить брак на законных основаниях, — напомнил он ей. Рука его гладила ребенка по головке, но время от времени, словно невзначай, съезжала ей на грудь, которую он ласкал, нежно ударяя по ней подушечками пальцев. — Даже если бы я был холостым до встречи с тобой, все равно ничего бы не вышло. Вместе мы можем быть только вот так, Клео, и от этого мне так же больно, как и тебе, дорогая.
Она ему не верила, но прощала из-за того удовольствия, которое он получал от этого совершенного существа — их ребенка, и его любовь к нему была всеобъемлющей и искренней. Она прощала его, но все же ей было больно.
После этого он приходил полюбоваться Орелией каждый день — так они нарекли свою дочку. Он с наслаждением следил, как Клео ее моет, как, открывая свою золотистого цвета грудь, вставляла ей в губки сосок. Орелия сосала грудь с жадной безмятежностью, время от времени бросая равнодушный взгляд на Ивана. Она ни на что не обращала внимания, была вся поглощена своим занятием. Клео только смеялась, когда Иван пытался ее отвлечь от этого. У него ничего не выходило.
Иван купил ей прекрасно исполненную деревянную колыбель. Когда Орелия в ней спала, Клео, склонившись над ней, внимательно изучала черты ее крошечного лица, надеясь, что у нее будут такие же длинные скулы, как и у матери и бабушки; она видела в ее миндалевидных глазках китайские глаза своего дедушки, а Мейзи утверждала, что они не останутся такими же голубыми, как у Ивана.
— У всех новорожденных глаза голубые, — переводила Берта ее слова. — Но это еще ничего не значит.
С каждым днем Орелия все хорошела и уже улыбалась. Махала ручками, когда Клео смеялась или поддразнивала ее. Во сне она была — вылитый ангелочек. Никакое несчастье не смогло бы омрачить радости Клео, получаемой от своей дочки за все это время со дня ее рождения.
Золотистый пушок у Орелии на головке исчез, и когда у нее начали отрастать новые волосики, они были рыжеватого цвета.
— У нее будут золотисто-каштановые волосы, — сказал Иван, испытывая благоговейный восторг. — Она будет редкая красотка, Клео. — Она с ним была полностью согласна.
Дни быстро проходили один за другим, и все они были отмечены только первыми улыбками Орелии, ее первым смехом, ее растущей силой, позволявшей ей держать головку и разглядывать окружающих, ее способностью сидеть, оперевшись спиной на подушку, и отвечать на голоса. Она плакала редко, но уже проявляла свою волю, особенно когда хотела есть, и, несмотря на свой возраст, уже вырабатывала свои манеры для ее выражения.
Дни становились теплее, и Эстер теперь выносила колыбельку по лестнице в сад, напоенный ароматом цветов, где Клео сидела возле нее на столь нужном для ребенка солнце и шила для нее одежду. Томление Клео по необозримым болотным пространствам, вечную тишину которых нарушали лишь резкие крики мигрирующих гусей или мягкие всплески воды от ныряющих водных млекопитающих, уже не так часто угнетало Клео, но когда оно снова овладевало ею, то она мечтала о том, как привезет дочку домой, как представит ей свой прекрасный одинокий и пустынный мир, в котором она выросла.
Она обучит Орелию повадкам живущих там зверюшек, расскажет ей, как нужно находить домик мускусной крысы, где нужно поставить капкан на куда более дорогую норку, где водились самые лучшие устрицы. Она покажет ей прекрасных белоснежных живших на болотах цапель, других птиц с полосатым, под цвет камыша, оперением. Качая колыбель Орелии, она напевала индейские песни, те, которые пела ей мать, песни о Большом Духе и его братьях, об орлах и прочих тварях, заселяющих нашу землю.
Иван приказал Эстер собрать все платья, которые Клео носила во время беременности, и выбросить их прочь. Потом снова пригласил к ней модистку и сам выбрал из французских шелков отрезы для ее новых нарядов. Первое платье, на котором он остановил свой выбор, должно быть бледно-золотистым.
— У мадам изменилась фигура, — заметила модистка-квартеронка. А Клео принялась разглядывать собственное отражение в зеркале.
Она все еще была стройной, но на ее теле уже появились пухлые складки, а груди налились и округлились. Когда платье было готово, когда она укрепила волосы двумя заколками, чтобы не мешали при последней примерке, то подумала, что "мадам", жена Большого Жака, теперь ее ни за что не узнает. Даже месье Вейль, который хранил в своем сейфе ее деньги и браслет, не говоря уже о рыбаках, ловящих креветок, которые привозили ему свой улов. Да она себя сама с трудом узнавала.
В тот вечер к ней приехал Иван и наблюдал за тем, как Эстер помогала ей одеваться, как укладывала ей волосы в изящные кольца.
— Нас, дорогая, ждет карета. Я хочу тебя покатать.
Захлопав от радости в ладоши, она тут же приказала Эстер укутать потеплее девочку, чтобы уберечь ее от постоянно меняющейся весенней погоды, но Иван перебил ее:
— Мы оставим Орелию с Эстер.
— Но мне нужно ее кормить через три часа, — запротестовала она.
— Обещаю доставить тебя домой, прежде чем она умрет с голоду, — поддразнивал ее Иван. — Эта прогулка для нас двоих.
Клео не знала, сможет ли она оставить даже на короткое время свою девочку, но Иван твердо сказал:
— Не будешь же ты все время таскать ее с собой. Она должна уже привыкать к этому.
Они оставили Орелию в колыбельке во дворе. Рядом с ней сидела Эстер.
— Теперь руки у меня ничем не заняты, мне как-то не по себе, — сказала Клео. Но денек выдался на славу, а она слишком долго сидела в одиночестве в этом доме-пекарне. Клео наслаждалась свежим воздухом, когда карета тронулась по выложенной булыжником мостовой.
— Куда мы едем?
— На озеро…
В казино она мало говорила, но от ее взгляда ничего не ускользало, особенно женщины, с их нарядами и драгоценными украшениями. Одно было ясно — среди них не было ни одной белой.
— Ты возишь сюда свою жену?
Иван, покраснев, ответил как ни в чем не бывало: