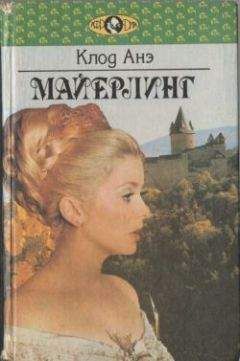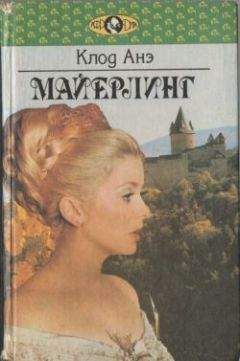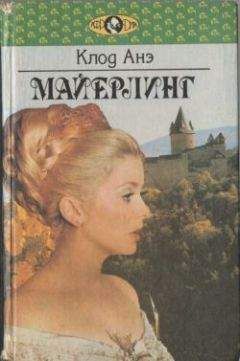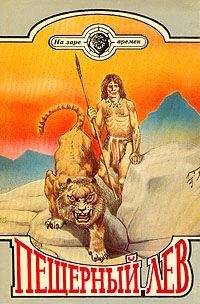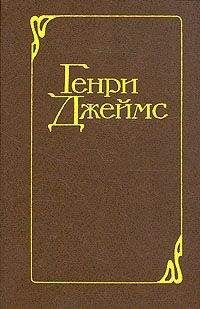Короче, я держалась от доктора подальше. И вот в ту новогоднюю ночь с шампанским всякие иные чувства, кроме любопытства, исчезли во мне. Я сказала себе: „Что за глупость? К чему такие колебания? Да вовсе ни к чему! Разве я не имею права делать то, что хочу, и проникнуть наконец в эту жгучую тайну?" Заметь, я по-прежнему не была влюблена в доктора. Я смотрела на него теми же глазами, что и накануне. Но только теперь я подчинялась новой, сметающей все сомнения логике. Остаток вечера я вела себя вызывающе, и чем увереннее становился он, тем в большее раздражение впадала я. Он выслушивал мои дерзости с легкой улыбкой. А мне хотелось влепить ему пощечину… Короче, когда мы вышли, он увел меня от моего кавалера и посадил к себе в сани. „Хочу покататься", – заявила я. „Хорошо. Поезжай за город", – приказал он вознице. И мы заскользили в холодной ночи, я, как водится, полулежала в его объятиях. Я казалась себе отсутствующей, парализованной, однако наблюдала за всем, как зритель в театре, и сохраняла абсолютную ясность разума. Владимир Иванович молчал. Когда мы проехали несколько верст, он приказал кучеру: „Домой". Я не протестовала.
Мы приехали к нему. Рядом с домом у него был отдельный флигель, где он принимал пациентов. Мы вошли… Ах, как здесь было жарко!.. Я заговорила, и звук собственного голоса показался мне странным… Раздражал слишком яркий свет.
Арина прервала рассказ. Константину показалось, что она побледнела.
– Ты же задушишь меня, я еле дышу, – сказала она, пытаясь высвободиться.
Только теперь он заметил, с какой силой прижимает к себе хрупкую девушку. Он разжал руки. Оба молчали.
– Ну а потом? – спросил он.
– А потом, – ответила она, – случилось то, что и должно было случиться. И только тогда я поняла, что Владимир Иванович столь же посредственен, как и все остальные – за исключением тебя, разумеется, – заявила она, иронически улыбаясь, – и моя тетя…
В этот момент Константин так грубо оттолкнул ее, что она скатилась на пол, ударившись головой о ножку стола. Она лежала бесформенным клубочком, сотрясаемая рыданиями…
Константин, шатаясь, сделал несколько неверных шагов, поколебался, потом взял шубу и шапку и вышел, хлопнув дверью.
Возвратился он только к шести утра. Арина, укрывшись пледом, спала на диване.
– Иди в спальню, – сурово приказал он.
Она не послушалась. Тогда он грубо потянул ее за руку, и она подчинилась. Они, не разговаривая, уснули рядом. Их разделяли считанные сантиметры, но казалось, что между ними разверзлась пропасть.
Дела задержали Константина в Москве еще на несколько недель, и все это время он продолжал жить вместе с Ариной, не находя в себе силы порвать с ней здесь. В день неизбежного разрыва он должен был тотчас выехать в Петербург.
Зная характер Арины и неимоверную гордость, которую она в себе воспитала, он полагал, что, как только объявит о своем решении, она немедленно покинет его. Эта самолюбивая девушка была способна в пику ему в тот же день завести себе нового любовника, чтобы сделать разрыв окончательным. Она не будет ни писать, ни звонить, не бросится за ним в Петербург.
Константин жил с ней в той же интимной близости, что и раньше, но смотрел на нее, как на существо, к которому был сильно привязан, но скоро должен потерять. Он уже пережил в душе боль предстоящей разлуки, говорил с Ариной ласково, без раздражения и грубости, отбросил свою обычную ледяную сухость, с помощью которой оборонялся в спорах с любовницей. Теперь они подолгу дружески беседовали. И тот и другой избегали опасных тем, щекотливых вопросов, ядовитых слов. Часто он просил ее рассказать что-нибудь увлекательное из ее детских лет.
Однажды на какую-то реплику Арины он заметил шутливо:
– Тебя плохо воспитывали, малышка!
– Какое там, – ответила она, – меня вовсе никто не воспитывал. Я расскажу, если тебе это интересно, как прошло мое детство. Когда я была маленькой, мы жили зимой в Риме. Моя мать была красивой элегантной женщиной, пользовавшейся успехом. Мной она не занималась, и я жила под присмотром гувернантки-француженки, мадемуазель Виктуар. Это была сорокалетняя старая дева, набожная, добродушная и глуповатая. Еще в раннем детстве я проявляла феноменальные способности: обладала цепкой памятью, могла пересказать наизусть прочитанное всего один раз. Поскольку я была предоставлена самой себе, можешь представить, к чему все это могло привести. Читать я научилась почти самостоятельно в четыре года. Однажды мне попалась книга по химии. Я прочла первую страницу, и, когда в присутствии нескольких гостей за обедом мой крестный спросил, чему я научилась, я пересказала эту страницу, не пропустив ни слова. Я в этом ничего не понимала, как и они… Но все были восхищены, меня осыпали похвалами. Моя мать, обычно ко мне равнодушная, была полна гордости… С тех пор так и повелось: когда в доме принимали, мадемуазель Виктуар наряжала меня в белое платье с широким кушаком, завивала волосы и выводила к гостям. Меня заставляли читать басни, дамы целовали меня, мужчины приставали с вопросами. Особенно неприятны были поцелуи дам. Когда они обнимали меня, я говорила: „Только быстро и не в губы, не оставляйте следов". Следовал взрыв глупого смеха. Вскоре мне опротивело быть ученой обезьянкой, и однажды я отказалась выходить к гостям. Разразился скандал. За мной пришел отец, но я не подчинялась ни просьбам, ни угрозам. Я вцепилась в кровать и, когда меня попытались оторвать, подняла такой крик, что сбежался весь дом. Кончилось все тем, что меня оставили в покое в обществе мадемуазель Виктуар.
Мы подолгу гуляли с ней, я увлекала ее в самые грязные римские кварталы. Старая дева пугалась, умоляла меня вернуться, осыпала себя крестным знамением и тащила меня в первый попавшийся на пути храм. Там она молилась, чтобы унять волнение, ставила свечи, а я бегала, скакала по приделам на одной ножке с плиты на плиту.
Потом, когда мне исполнилось десять лет, мать стала использовать меня в своих интересах. Она отлично знала, какое презрение я испытываю к отцу, и, хотя мы с ней не были особенно близки, угадала, что я ее никогда не предам.
Чем объяснялась моя неприязнь к отцу? Я его редко видела, он почти всегда был в отъезде. Помню, что совсем маленькой почувствовала, что он меня не любит. Он был добрым и слабым и обращался со мной как с куклой, как-то странно поглядывая на меня. В разговорах с матерью он не называл меня иначе, как „эта малышка… эта малышка очень умна… эта малышка весьма забавна" и так далее и в том же духе. Он никогда меня не ругал и представлялся мне чужим человеком, который просто жил с нами несколько месяцев в году. Однажды между ним и матерью в моем присутствии произошла бурная сцена. Он неожиданно приехал из Петербурга. Что нашел он в доме такого неприятного? Я этого не знала, но за обедом какая-то реплика матери вызвала его гнев, и он осыпал ее упреками. Она сухо ему отвечала. Тогда он поднялся, швырнул на пол салфетку и заявил: „Я уезжаю и никогда не вернусь". „Счастливого пути", – бросила мать. Он поцеловал меня и вышел. В этот момент я прониклась к нему уважением. Мне казалось, что он вел себя геройски… В тот же вечер он уехал в Париж. Никогда еще я так много не думала об отце. Он не уступил матери и сделал так, как решил. Я восторгалась им две недели… Но однажды утром обнаружила его в спальне матери, сидящим на ее постели. Он приехал ночью. Мне почудилось, что мой приход был им нежелателен. Они оба громко смеялись, мать играла жемчужным колье, которое привез ей отец. С этого дня в моей душе поселилось презрение…