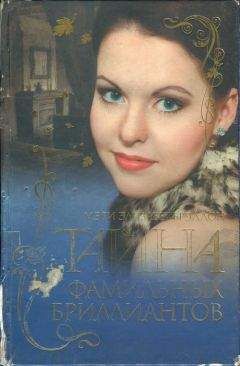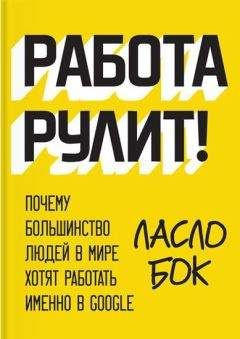– А вы, гость провинциальный, подлинно хамоваты.
– В чем же хамоватость моя состоит, извольте объяснить?
– Да ведь всякая дама в маскараде – заведомо красавица! Так с нею и надобно обращаться, даже если домино покрывает ее фигуру, а маска – лицо. Вы же подозреваете во мне уродину…
– Помилуй Бог! Мне худышки очень по нраву.
– Так вот какие нынче нравы в нашей провинции?!
– Да уж, да уж…
– Позвольте вам не поверить, сударь.
– И правильно, не верьте мне, потому что худышек я и впрямь люблю, но только бюст у них непременно должен быть пышный. Так что… прощайте, сударыня, у вас нет надежд сыскать мою благосклонность, хотя ножка у вас преизумительная.
– Вот болван самонадеянный! Да больно надобна мне ваша благосклонность! Но знайте, бюст у меня тоже преизумительный, не извольте сомневаться!
– Неужели?! Вряд ли вы правду говорите. Хвастаете, конечно! Пользуетесь тем, что проверить ваши слова никак невозможно.
– А ежели возможно?
– Э-э… коим же образом? На ощупь позволите?
– Только попробуйте, и я подниму такой крик!
– Тогда как же нам быть? Неужто так я и покину вас, не убедившись в том, что вы правду говорите?
– А ведь мое домино имеет застежки на груди. Что же будет, ежели мы с вами завернем вот за эту портьеру, а потом я расстегну одну пуговку?
– Ну, одну… одной, знаете ли, маловато будет!
– Ну хорошо, две.
– Где две, там и три, сударыня. Ну-ну, не скупитесь, расстегните и четвертую, позвольте ж мне насладиться сим зрелищем! Еще и пятую, умоляю… Ах Боже ты мой!
– Вот так. Что я вам говорила?!
– Да, все истинно! Какие холмы! Сколь они белопенны! Какая возбудительная родинка на сих холмах! Или это мушка?
– Мушки я леплю на щечки, а здесь родинка природная. Кроме меня, ни у кого такой нет, можете даже не искать!
– Ах, кабы я мог всю жизнь созерцать эту родинку, клянусь, ни на какие иные груди и не взглянул бы! Ничего прекрасней в жизни не зрел! Нигде и ни у кого!
– Врете небось.
– Полно вам, правда истинная. Ах нет, не спешите… ну как вы можете быть столь жестоки?! Уже застегнулись…
– Экий вы, сударь, что же, я так и должна стоять нараспашку, чтобы всякий мог видеть, как фрейл… э-э, как маска открыла свои тайны прежде того времени, как будет дозволено?! Да меня просто выгонят с маскарада, здесь у нас правила жесткие!
– А что, позвольте спросить, значит недосказанное вами словцо «фрейл…»? Сдается мне, это значит «фрейлина»… Уж не фрейлина ли вы императрицы?
– Да хоть бы и так, вам-то что с того-с? Вам, провинциалам, вход в приватные места заказан. А более фрейлин нигде не увидать. Поэтому можете голову ломать хоть до скончания веку, в самом ли деле я фрейлина или нет. И на сем прощайте, сударь, уезжайте в свой Голопупинск или Грязнопяткинск. Наисчастливейшего вам пути!
– Хм… и с чего это вы взяли, что я куда-то уезжать собираюсь, тем паче, в этот… Голозадовск? Нет, теперь, после нашей встречи, я уж наверняка не покину столицу! Глядишь, еще свидимся!
* * *
– Ну, довольно! – пробормотала императрица и поднялась с постели. – Я должна его видеть!
Протянула руку к колокольчику – вызвать камердинера, пусть сходит и приведет паренька. Пусть выдернет его из постели живого или мертвого!
И тут же отдернула руку.
А вдруг… вдруг все правда, вдруг там окажется кто-то еще? Невозможно представить себе, что он пойдет на такой риск, но чем черт не шутит? Разве сама она когда-то, давно, не рисковала черт знает как, не рисковала репутацией и самой жизнью, только чтобы побыть с любимым? Вдруг и он отважится?
Нельзя, чтобы кто-то увидел это. Опозорена будет прежде всего императрица, чей молодой любовник загулял.
Пойти самой? А если ее увидит кто-то из гвардейцев, стоящих на карауле?
Нет.
Надо подождать. Надо еще немного подождать.
Подождать, подождать! Ее затрясло, как в лихорадке, стоило только представить себе, как он обнимает другую. Да как он смеет?! Да что он понимает в любви? Да кто он такой, этот мальчишка? Ничтожество!
Ну что ж, ничтожество тоже способно на любовь. Да еще и на какую!
Пример ее бывшего мужа и «девицы Воронцовой» – тому живейшее доказательство.
Неужели Петр и вправду женился бы на ней, если бы что-нибудь случилось с Екатериной?!
Теперь об этом можно только гадать, ведь тот обед 24 мая 1762 года, когда император публично опозорил жену и возвеличил фаворитку, стал толчком для заговорщиков. Ведь кара могла в любой миг настигнуть не только императрицу, но и ее любовника, и его братьев. Екатерина, может быть, осталась бы жива, пусть и в заточении, однако Орловым непременно пришлось бы проститься с жизнью. То есть растопкой для костра этого комплота был и страх его основных участников.
А впрочем, какая разница?..
Между тем Петр никак не мог перестать восторгаться все тем же миром с Пруссией. 22 июня он давал еще один пышный ужин на пятьсот персон, потом был устроен фейерверк. Затем Петр с фавориткой отправились в Ораниенбаум. Это было место, где Елизавета Романовна царствовала всецело и безраздельно. Жене Петр приказал ехать в Петергоф и ждать его там. 29 июня предстояло отпраздновать день ее ангела, а Петр всегда был рад новому поводу повеселиться. И вот он примчался с Воронцовой в Петергоф – и узнал, что императрица уехала.
– Куда?
– Неведомо, государь.
– Зачем?!
– И сие неведомо.
И тут к императору приблизился какой-то мужик, начал ломать шапку и падать на колени, а потом передал какую-то бумагу. Это была записка от француза, бывшего камердинера Петра. Когда император прочитал ее, то несколько мгновений стоял, как громом пораженный.
Елизавета Романовна вынула бумагу из его руки и, попытавшись вспомнить, чему ее учили в детстве, с пятого на десятого прочла, что Екатерина находится в Петербурге, где провозгласила себя единой и самодержавной государыней!
Пока Воронцова пыталась проникнуть в смысл этого невероятного сообщения, Петр принялся, как безумный, метаться по саду и дворцу, выкликал императрицу, искал ее по всем углам, а растерянные придворные бегали за ним, как куры за петухом, усиливая суматоху. Наконец истина стала доходить до собравшихся: кажется, император Петр Федорович, их господин и повелитель, более им не является…
А в это время в Петербурге «единой и самодержавной» императрице Екатерине и впрямь присягали на верность полки. Попытку сопротивления сделали только преображенцы, которыми командовал Семен Романович Воронцов, брат фаворитки. Эта попытка кончилась ничем, и князь Семен впоследствии поплатился за нее пожизненной «почетной ссылкой» в Англию, куда был назначен послом.