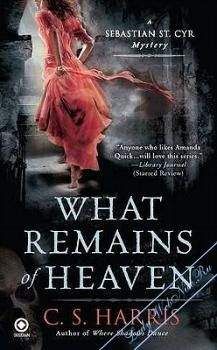* * * * *
Преподобный Малькольм Эрншоу, издав негромкое стенание, опустился перед алтарем церкви Святой Маргариты и молитвенно сложил руки.
Истертый каменный пол придела был холодным и мучительно твердым для разболевшихся коленей, но священник принимал эту боль в качестве епитимьи.
Пастор крепко зажмурил глаза, зашевелил губами в беззвучной молитве. «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали…»[34]
Столь трудно решить, что предпринять в подобной ситуации. Недопустимо по неосторожности обвинить невинных, но что если… Что если с виду невиновные на самом деле не являются таковыми? Как убедиться? Никогда еще преподобный Эрншоу так не нуждался в мудром наставлении.
– Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе, – зашептал священник, находя утешение в проговаривании молитвы вслух. – Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Снова припустил дождь. Прислушавшись, как застучали капли по черепичной крыше, Эрншоу вздрогнул от холода, сырости и прилива необъяснимого страха.
– О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! – воззвал священник, повышая голос. – Удалитесь от меня, кровожадные!
Где-то пугающе близко что-то глухо стукнуло.
Преподобный поднялся с колен, потрескивая суставами. Дыхание горячим сгустком застряло в горле. Обернувшись, он беспомощно вгляделся в темноту:
– Кто здесь?
В ответ донеслось лишь эхо собственного возгласа. Эрншоу тяжело сглотнул, объятый смешанным чувством понимания своей неразумности и ужаса.
– Здесь есть кто-нибудь?
Пастора одолевало желание выскочить в западную дверь придела, но толстые восковые свечи, горевшие возле алтаря, были неимоверно дорогими – не следовало жечь их попусту. Как бы он ни боялся, нельзя допускать глупой расточительности.
Нагнувшись и быстренько затушив пламя, священник, в спешке спотыкаясь, шагнул к алтарю. Затем бросил еще один испуганный взгляд в сторону нефа и прошептал:
– О, Господи…
СУББОТА, 11 ИЮЛЯ 1812 ГОДА
Наутро Себастьян отправился в Прескотт-Грейндж, намереваясь побеседовать с вдовой сэра Нигеля. Проезжая через Танфилд-Хилл, он увидел на деревенском лугу толпу местных жителей, рассредоточивавшихся в разных направлениях под руководством Дугласа Пайла.
– Что случилось? – поинтересовался виконт, останавливаясь.
– Да этот полоумный священник куда-то запропастился, – пояснил сквайр. – По словам миссис Эрншоу, его преподобие вчера вечером ушел из дома, сказав, что не помнит, запер ли он дверь в ризницу. С тех пор его никто не видел.
Себастьян бросил взгляд на древнюю церковь, толстые каменные стены которой под облачным небом выглядели мрачными и зловещими.
– А в склепе смотрели?
Колыхнув широкой грудью, помещик медленно выдохнул:
– А то как же. Благодарение Господу, пастора там не оказалось. Зато вот что мы нашли, – он выудил из жилетного кармана какую-то вещицу и протянул виконту.
Себастьян уставился на вырезанный из черного камня классический профиль в массивной серебряной оправе.
– Кольцо сэра Нигеля?
Дуглас Пайл кивнул:
– Один из парней обнаружил на куче щебня возле тех рассыпавшихся гробов. Должно быть, как-то закатилось туда, потому мы в прошлый раз его и не заметили.
– А отец Эрншоу часто так поступал? – Девлин вернул перстень помещику. – В смысле, ходил по ночам в церковь?
– Супруга утверждает, что иногда – когда его что-то тревожило.
– А пастора что-то тревожило?
– Миссис Эрншоу говорит, что, судя по виду, да.
– Она не знает, что именно?
Сквайр покачал головой:
– С той поры, как священник обнаружил трупы в крипте, он вел себя как-то необычно. Хотя кто бы после такого не переменился?
– И то правда, – согласился виконт, пытливо вглядываясь в полное, дружелюбное лицо сэра Дугласа. – Насколько хорошо вы знали Нигеля Прескотта?
– Сэра Нигеля? Не так чтобы очень. Баронет был гораздо старше, – помещик потер ладонью затылок. – Говорят, то страшилище в синем бархате оказалось им?
– По всей видимости.
– Аж не по себе становится, – мотнул головой Пайл, – как подумаешь о том, что добрых три десятка лет каждое воскресенье он лежал у нас прямо под ногами с ножом в спине, а никто и не догадывался.
Себастьян наблюдал, как отправившиеся на поиски жители деревни расходятся в разные стороны.
– Насколько я понимаю, баронет был неприятным человеком.
– Неприятным? – ухмыльнулся сквайр. – Тяжеловато вам будет отыскать в округе хоть кого-то, кто скажет о нем доброе слово.
– Нечасто встретишь столь отличающихся друг от друга братьев.
Помещик потер ладонью подбородок и отвел взгляд в сторону, словно выискивая слова.
– Ходили слухи о прежней леди Прескотт, матери сэра Нигеля… ну, вы понимаете, о чем я. Между Френсисом Прескоттом и остальными его братьями и сестрами не наблюдалось сильного семейного сходства.
– И все же, не родись Питер Прескотт, имение отошло бы к епископу?
– Ну да, так бы и случилось, – подтвердил сэр Дуглас, покачивая головой. – Кто бы мог подумать, при пятерых-то сыновьях?
Он снова покачал головой, словно подчеркивая сказанное:
– Пятеро сыновей. И если бы не посмертный младенчик, все досталось бы самому младшему.
* * * * *
Поместье, унаследованное Питером Прескоттом при рождении, располагалось к северу от деревни, на краю пустоши Ханслоу-Хит. Себастьян ехал меж ухоженных полей поспевавшего ячменя, пшеницы и овса, колыхавшихся под легким июльским ветерком. Тучные бурые коровы щипали траву на пастбищах, обнесенных крепкими каменными оградами и густыми живыми изгородями. Возле крытых соломой домиков дети играли с собаками, которые с лаем бросились за коляской, когда Себастьян покатил по аллее, ведшей к старинному особняку.
Здание являло собою живописное и беспорядочное нагромождение пристроек, одни из которых были деревянно-кирпичные, из красного кирпича эпохи Тюдоров, другие – из средневекового камня. Все это располагалось вокруг мощеного прямоугольного двора, а центром был большой холл, датируемый, должно быть, тринадцатым или четырнадцатым веком.
Леди Прескотт, мать нынешнего баронета и вдова сэра Нигеля, находилась в саду, простиравшемся к востоку от древнего холла. С корзинкой на сгибе локтя и садовыми ножницами в руке она срезала цветы с буйных кустов роз и пионов, мальв и лаванды, образующих широкий бордюр вдоль поросшего травой края канавы, оставшейся от оборонительного рва. Это была невысокая, стройная женщина лет пятидесяти с небольшим. Ее золотистые косы уже тронула седина, а в голубых глазах, смотревших из-под широкополой шляпки на приближавшегося виконта, сквозила печаль. Дама была одета в строгое черное платье с глухим воротником, как и приличествует женщине, пребывающей в глубоком трауре по мужу и деверю.