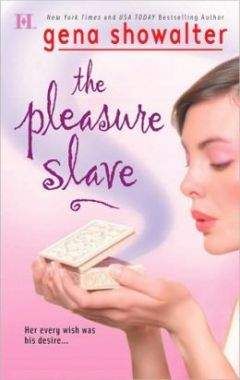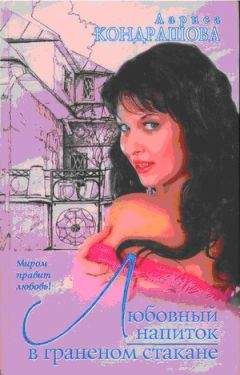– Хватит сачковать, – сказал Иван Афанасьевич. – Надо разрабатывать колени.
– Как это?
– А так, что попотеешь. И не плачь, не поможет. Переворачивайся на пузо!
После вытяжения и гипса ноги лежали на простыне, как сухие палки. Мышцы, растянутые грузами, одрябли. Трофим переворачивался на живот, остро чувствуя свободу движения. Левой рукой прижав его колено к простыне, правой доктор захватил ногу возле ступни и сильно потянул, сгибая. Нога не поддавалась.
– Оо-о-о-й!
– Ну, не трусь, – сказал Иван Афанасьевич, – вперёд и с песней! – он снова потянул. Трофим старался не стонать и только покряхтывал. А доктор ещё и ещё гнул ногу,
– Ладно, – сказал он, наконец. – Хватит. Сегодня над тобой издевался сам заведующий отделением. Не по чину! Работай с физкультурницей. И прояви мужскую твёрдость характера. Не ныть и не стонать! Кряхтеть можно, кряхтенье не позор. Понял?
– Ага. Иван Афанасьевич, – спросил вдруг Трофим, – у вас в библиотеке сказки Пушкина есть?
– Есть, – удивился доктор. – А что? Тебе рыбака или рыбку? Или обоих сразу? Царя Салтана вспомнить не хочешь?
– Да нет, – Трофим поморщился. – Это мне маленькому читали. Я помню. Но не все сказки я тогда узнал.
– А какую тебе?
– Про царя Никиту...
Больница не слышала, чтобы Иван Афанасьевич так хохотал. Замолкал и начинал снова. Наконец успокоился. Вытер платком глаза.
– Откуда ты про эту сказку знаешь?
– Друг рассказывал.
– Хм-м... Друг. Он часом не литературовед?
– Клоун.
– Это почти всё равно. Так и быть, ликвидируем детскую необразованность. С физкультурницей передам. Может, и она не читала?
«Физкультурницей» была врачиха «ухо-горло-нос». Специалистов не хватало и она занималась лечебной физкультурой по совместительству. Маленькая, тощая, злая она атаковала ноги Трофима яростно, будто неподвижность её лично оскорбляла. Постепенно колени поддались. Почти незаметно, затем больше и больше.
– Ну, как тебе сказка? – Иван Афанасьевич улыбался. – Физкультурница так и не прочла, Занятой человек. А жаль. Понравилось?
– Ничего не понимаю, – Трофим смотрел в потолок. – Ничего теперь уже не понимаю. Великий поэт! «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «История Пугачёва». И «Сказка, про царя Никиту...» Не серьёзно. И Пугачёв – там один, здесь другой. Царица тоже... и опять же – царь Никита. Как будто разные люди писали.
– Во-первых, ты не прав: стиль пушкинский во всём и спутать его с кем-нибудь просто нельзя. Во-вторых, человек не бывает всегда одинаков. Тем более, поэт. А ещё и Пушкин! «Про царя Никиту» шутка, разумеется, но и шутка – поступок. Выбор. Может быть, это главное в жизни – достойно выбрать. В шутку и всерьёз. Ты рассказывал про тётю Мотю. Он мог и на скрипке играть, и в атаку ходить. Только выбирать не умел, выбирали за него. Кто он? Стукач. И не понял ничего. Книги тебя научат понимать и думать. Я надеюсь.
– Кто читал книги, обязательно правильно выберет? Не предаст, не изменит? Да? И стукачом не станет?
– Ишь чего захотел! Как бы просто всё было. Сколько угодно в мире образованной сволочи. Предают, наушничают, а то и убивают из-за угла. И объясняют, что иначе нельзя было. Что их неправильно поняли. Что их подлость на самом деле чистое благородство. Образованные люди и аргументы приводят. Нет уж, рецептов не жди. Быть порядочным человеком или сукиным сыном, это тебе для себя решать. И мне для себя. И каждому. И каждый раз.
– Костя смеялся: «мир ждёт, пока ты поумнеешь». – Мир – не знаю. Очень уж велик. Но мне было бы приятно. Наверное и Косте. А тебе полезно. Может быть.
– А может быть и нет?
– А может быть и нет, – сказал Иван Афанасьевич очень серьёзно. И даже повторил: – А может быть и нет...
Иван Афанасьевич, – сказал Трофим, – а что если «Евгений Онегин», в сущности, написан прозой?
– Чем?!
– Говорю «Онегин» – прозой.
– Сотрясение мозга у тебя, правда, было... – покачал головой доктор. – Или опять клоун?
– Литературовед.
– Ты с ними осторожней. У нас нет психиатрического отделения.
Трофим лежал на животе и кряхтел. Колени уже сгибались почти под прямым углом, особенно хорошо гнулось правое. «Физкультурница» злилась и на левую ногу давила больше. Согнув в колене, она укладывала стопу себе на плечо и налегала, как на отбойный молоток взад-вперёд, взад-вперёд, взад-вперёд. Раз-два, раз-два, раз-два. Согнуть-разогнуть. Время от времени измеряя угол большим деревянным транспортиром, оставалась недовольна и удлиняла занятия. Теперь он чаще сидел на кровати, свесив ноги. Читал или смотрел в окно. Небо потемнело, снежная шапка на осине стала мокрой и серой. Дерево пожухло и завлажнело, потеряв зимнюю нарядность. Снег на ветках стал ноздреватым и наконец растаял. Альбина принесла костыли.
– Пошли! – обрадовался Трофим.
– Не бегай! – ухмыльнулась Альбина. – Споткнёшься!
Трофим сел на койке и пошевелил ступнями. Поставил ноги на пол. Правой рукой упёрся в перекладину костыля, левой взялся за спинку кровати. Напрягся, чтоб разом вскочить, но еле хватило сил медленно подняться. Закружилась голова, он устоял. Альбина подставила второй костыль, и Трофим повис на подмышках, как тряпка на гвозде. Костей и мускулов не было. Шагнуть нечего и думать. Поднял глаза на сестру, чуть не плача.
– Молодец! – сказала Альбина к его изумлению и улыбнулась. И повторила: – молодец! Для первого раза отлично. Даже поддерживать не пришлось. Бегун! – теперь она смеялась широко и весело.
На третий день он с трудом сделал шаг к соседней койке, но дальше дело пошло. Через неделю выглядывал в коридор. Чтобы не рисковать, гипс наложили снова, но теперь только на левое бедро от поясницы до колена.
На осине взбухли почки, когда его выпустили, наконец, в больничный двор. Двор оказался неожиданно просторным. Вдоль забора рос кустарник, подстриженный на уровне Трофимова живота. Осина торчала в небо ровно посередине, под ней на двух столбиках, вкопанных в землю, была прибита грубо выстроганная столешница со щелями между досок и скамья рядом, тоже на столбиках. Сидели больные в телогрейках или тяжёлых чёрных пальто, надетых на больничные халаты и посетители в разной, одинаково небогатой одёжке. Говорили тихо, зато в ветвях снова, как осенью каркало, чирикало, пело. По двору прыгала желтогрудая птичка. Мимо тянулась улица, вполне деревенская. Зеленели деревья, орали грачи. Зима кончилась.
Трофим на скамье полулежал: бедро, стянутое гипсом, не сгибалось и, чтоб не сползать, он упирался ногами в землю. Не слишком удобно, зато хорош свежий воздух даже и с лёгким ветерком. Когда футляр сняли, скамья стала его любимым местом. Утром перетаскивал сюда книги и проводил на воздухе весь день. Ходил уже без костылей, с палкой. Ещё появились альбомы, тоже принесённые Иваном Афанасьевичем. Оказывается живопись, как и проза, имела чёткий ритм, выраженный сочетанием тонов и линий. Время шло незаметно, лечение заканчивалось Правду говоря, другого бы давно выписали. Срок лечения кончился, а план – государственный финансовый план, о котором говорилось в самом начале повествования, был обязательным для хирурга так же, как для стоматолога. План господствовал над государством и постоянно нарушался – чаще, конечно, за деньги, иногда же по доброте душевной. Иван Афанасьевич держал Трофима, можно сказать, «по блату» силой своего авторитета. Знал, что деваться парню некуда и привязаться к нему успел. Но авторитет, к сожалению, не бесконечен.