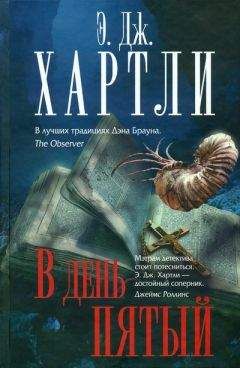Констан смотрел в лицо Луи. Теперь это было лицо малознакомого человека. Несколько минут назад он встретился лицом к лицу с задорным юношей, потерявшимся в теле молодого мужчины, согбенного под тяжестью военных дней и личной трагедии. Сейчас же на него вдруг смотрел старик, не надеющийся на возрождение подобно фениксу. Глаза запахнулись невидимой ширмой и перестали быть отражением души, не давали вернуться в детство. Взгляд остекленел и похолодел, угас и сжался до крохотного мирка, где человек живет наедине со своими бедами. Луи. Кто украл твой яркий взор? Кто заменил тебе сердце? Ни одно из чувств не ответило ему.
Глаза стали расплываться. Вот уже вместо них серый квадрат. Вот непрерывная черная лента, ведущая в никуда. Вот проникающий в душу, раздирающий изнутри звук колоколов. Сразу после них — сырость, а затем — яркий свет. Становится мягко и тепло.
Констан пришел в себя в комнатке в церковной пристройке, сидя на кровати и обернув свои замерзшие ладони пледом. В голове роились мысли. Тишина не давила так сильно, как в центре города, как в кабинете Луи.
Он даже не попрощался с ним как следует.
Он еще придет к нему?
Он не знает.
И не знает, хочет ли повторения встречи с ним теперь.
Дюмель посмотрел на сложенный лист бумаги с рецептом, который сжимал в руках, и, развернув его, пробежал глазами текст, написанный твердой рукой и решительным почерком. Что ж, если пренебрежительность и неосмотрительность в таком, казалось, сильном чистейшем влечении, как любви, может привести к беде, тогда как же можно радовать жизни и наслаждению… Констана передернуло от одной мысли, что он неизлечим, что он обратился слишком поздно. Но нет, нет. Он тут же пытался отогнать от себя эти призраки. Он будет жить, он вылечится. Молитвами, возносящимися к высокому небу, и поддержкой вновь обретенного старого школьного друга, вопреки заражению вновь очнутся стойкость и мужество, появятся новые силы и укрепится дух, чтобы жить и ждать. Да, ждать… И надеяться на возвращение дорогих людей.
Глава 12
Ноябрь 1940 г.
Любовь моя! Гнев обуревает меня, я готов выть и лезть на стены, расстрелять все свои патроны, вгрызться в глотку поганым фашистам — как хочу разорвать их зубами и испепелить взглядом! Тяжело знать, что Франция пала, тяжело думать о том, что по улицам Парижа, где мы беззаботно гуляли и радовались жизни, сейчас топают германские сапоги — это немыслимо! Я рву и мечу. Я хочу верить, хочу знать только одно — что ты и моя мама живы и здоровы. Что к вашему волосу не притронулась пальцем ни одна фашистская падаль!
Как страшно и невыносимо, когда вокруг вас, моих дорогих людей, ходят вооруженные немцы, а я втаптываю сапоги в грязь где-то по направлению к Дюнкерку. Наша униженная и оскорбленная армия возвращается домой обходными путями под невидимым взглядом орла Вермахта. Где вся французская слава? Куда она ушла? К великому горю, мое подразделение отбито на далекий север. Мы пытаемся слиться с англичанами (так говорят наши оставшиеся в живых штабные), найти помощь у них и выступить на их стороне, в их числе на новой линии фронта. Я слишком далеко от тебя, мой Констан… Всё, что было между нами, словно из прошлой жизни, которой, уже кажется, никогда не было…
В мясорубках, участником которых я успел побывать за пару месяцев и оставался жив, полегли десятки тысяч. С некоторыми парнями, которых уже нет, я общался. Не пишу тебе о том, что творится на фронте, чтобы ты не тревожился. Этого не описать словами. Это не хочется переживать вновь даже на страницах письма. Каждый раз после боя я плачу от безграничного счастья и облегчения, что остался жив. А еще оттого, что убивал, стрелял в человека — злейшего врага, но всё-таки такого же, как я, из плоти и крови. И оттого, что было невыносимо страшно.
Слышу, что активно работает Сопротивление: однажды, счастливо обойдя немцев, к нам незамеченным подошел один сопротивленец и коротко рассказал об операциях, что проделываются его отрядом в лесах. Я начал думать, чтобы сбежать из армии, теперь объятой позором поражения, и примкнуть к свободным партизанам — вот кто сейчас истинно сражается за Францию! Знаю, ты не одобришь мой выбор, как не одобрил и выбор идти добровольцем. Но я давно уже не мальчик. Я могу принимать решения сам и отвечать за свои поступки.
Здоровье стало подводить. Я похудел, нечасто питаюсь, но ноги еще держат. Лишь мысли о тебе не дают мне пасть.
Твой Б.
Сказать, что приглашение на личную аудиенцию с Кнутом по желанию самого́ Брюннера в так называемую резиденцию оккупационных сил Вермахта, контролирующих Париж, для Дюмеля было неожиданным и внезапным, не сказать ничего. Получив повестку на бланке с орлом и свастикой, который передал ему служитель прихода, Констан долгое время не находил себе места, а в груди вспыхнул пожар, охвативший сердце и взявший в окружение разум. Дюмель был уверен — настал тот день, когда он поплатится историей с письмом от Бруно: будут пытать, выведывать информацию о планах разбитой французской армии, остатки которой присоединялись в бельгийцам и англичанам, считать обоих, его и Лексена, информаторами, работающими против Вермахта, а в конце концов его повесят или расстреляют. Собрав все свои остатки мужества, вознося Богу молитвы, которые только знал, осязая холодность своих рук, Дюмель после заутрени переоделся в обычную черную сутану, надел шляпу и пальто, последним, казалось ему, взором окинул свое церковное пристанище и, стараясь не поддаваться смертельному страху, на едва гнущихся ногах направился в сторону резиденции.
Он лишь дважды виделся с Кнутом. Самый первый — роковой, когда он познакомился с молодым офицером, что помог перевязать рану на голове; тот случай, так нелепо и глупо обнаруживший, обнаживший возможную связь с французской армией. Второй раз, когда он готов был провалиться сквозь землю, сгореть заживо прямо на месте, чувствуя холодный и пронзительный, как кинжал, взгляд Кнута, направленный на него из коридора парижской филармонии мимо лож и стульев. В большом концертном зале тогда давали крупный концерт к открытию сезона. Помещения украшал свастика, а внутри в тот вечер расхаживали приветливые и улыбчивые офицеры Вермахта и СС, словно сей музыкальный дар устраивался в их честь. На концерте присутствовал и Констан с некоторыми священниками, одетыми в вечерние выходные костюмы. И только Дюмель весь вечер чувствовал себя неуютно, пытаясь скрыться от глаз Брюннера, исчезнуть из поля его зрения, но постоянно казалось, что его взор, прямой и колючий, как у орла, держащего свастику, находит везде и обнаруживает всё. С тяжелыми чувствами и мыслями Констан пробыл в филармонии лишь одно действие концерта и, сославшись на плохое самочувствие, спешно ушел. На улице он освободился от галстука и расстегнул ворот: казалось, он задыхается, не хватает воздуха. Руки вспотели, ноги заплетались. Он шарахался по сторонам, от одной стены жилого дома к другой, пока продвигался в сторону станции метро. Теперь в абсолютно каждом немецком солдате, патрулирующим улицу либо просто идущим по своим делам, он видел зверя, кто стреляет на поражение при виде именно его, Дюмеля, живой цели — того, которого что-то связывает с воюющим французом, наверняка плетущим паутину заговора против действующего в Париже фашистского режима. Констан стал сам не свой после страшной оплошности с письмом, и ясно это осознавал. Он до сих пор не мог вернуться к душевному равновесию. Мысли, уносящие его в радостные воспоминания прошлого, практически, даже совсем не помогали. Стали сниться кошмары. Добрые слова и полные ложной надежды взгляды прихожан церкви не дарили защищенность и не оказывали поддержки. Теплые добрые руки обнимающей его Элен Бруно, с которой они виделись пару раз за прошедшие недели, не спасали Дюмеля от внутренней тревоги, которая усиливалась с каждым новым днем. Волнение каждый день переполняло сердце: мысли о пастве, родителях, Элен и храбром Лексене не давали Констану сосредоточиться на вечерних занятиях в университетском корпусе. Он вынужден был признать, что не стал вытягивать обучение, теперь оно ему казалось непосильным грузом, тяжкой ношей. Едва проучившись месяц нового учебного года, он отчислился, а ставшие свободными вечера, теперь не занятые лекциями и практикой, проводил в более долгих усердных молитвах за здравие родных ему и дорогих людей, а также за чтением строк философов Возрождения.