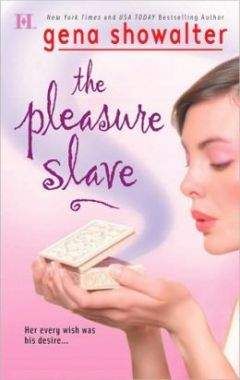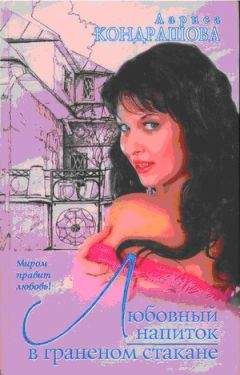Углом к автобусам длинной линией борт к борту стояли «волги» – все светло-серые. Другие машины сюда не становились. Подошла ещё одна светло-серая «волга» и заняла место в конце линии. Дверца открылась, но никто не выходил. Наконец, пяткой вперёд, вылезла светло-серая сандалета и над ней такая же светло-серая штанина. Сандалета стала на землю, штанина обтянула ногу и зад, Показалась широкая спина в просторном пиджаке, снова-таки светло-серого цвета. Дождавшись, когда из противоположной дверцы появится второй пассажир, первый вытащил наружу голову. Седая голова тоже была светло-серая. Светло-серый говорил не останавливаясь, почему и задержался в машине, а теперь обращался к спутнику поверх крыши, над которой даже вытянувшись, не слишком возвышался – не то, чтобы толстый, скорей округлый и, несмотря на это, изящный. Так изящны люди, чья профессия и талант – общение с публикой: изящны свободой и точностью движений. Новоприбывших окружили. Светло-серый здоровался с вновь подошедшими, ни на миг, притом, не замолкая. В его речи участвовало лицо, руки, туловище и даже коротковатые, быстрые ноги на которых он легко перемещался, никого не задевая в тесноте, образовавшейся вокруг него сразу. Трофиму показалось, что все в группе похожи друг на друга. Может быть той же элегантной свободой поведения, да и одеждой: кроме светло-серого в костюме и галстуке, на всех были лёгкие брюки и тенниски, но не простые, отечественного, родного пошива, а дорогие импортные.
Все здесь двигалось одним потоком в одном направлении. Только двое вышли из лесу наперерез, и сразу было понятно, что это не торопливые экскурсанты, что они приехали пожить и побродить в здешних местах: мальчик и женщина. Лицо у женщины было неправильное, нос явно крупноват, но глаза живые, тёмные, блестящие. Волосы тоже тёмные, оттеняя кожу, спускались из-под соломенной шляпы. На ней была кофта с узором из мелких цветов и тёмная юбка – длинная, почти до самых туфель тоже лёгких, на маленьких каблуках. Трофим подумал, что в пушкинские времена гостья бы от здешних обитателей, пожалуй, и не так уж отличалась. Мальчик же, лет одиннадцати, наверняка её сын такой же темноглазый и темноволосый но, наоборот, чуть курнос, и одет подчёркнуто современно. Трикотажная футболка с кукольным космонавтом на груди и джинсы. «Американские, – определил Трофим. – Настоящие, без булды». Он вдруг мучительно почувствовал, как висят на его заду брюки, одолженные у Ивана Афанасьевича до открытия поселкового магазина. Где ничего стоящего не купишь, но по размеру можно подобрать. Мама и сын, бредя наперерез экскурсантам, читали в два голоса стихи. Мама, отбивая ритм, покачивала книгой, а сын энергично встряхивал обеими ладошками.
«Я пошлю с этой почты, что на светлом лугу,
Телеграмму: «Вернуться никак не могу.
Ты прости, если я виновата...»
Трофим бы её простил. И пацана, заодно.
От берёзы с раздвоенным стволом налево уходила широкая тропа. Все поворачивали туда. Трофим повернул тоже, скоро вышел к другой, маленькой полянке и здесь присел отдохнуть на угловатую скамью с прямой решётчатой спинкой. Здесь такая называлась «онегинской» он видел снимок в книжке. Трофим погружался в призрачный мир, этот мир звучал ритмом, и словами.
Показалась давешняя группа со светло-серым в центре. Он по-прежнему говорил. Группа остановилась, но никто не сел. Может быть, потому что на единственной скамье всё равно все не поместились бы, они так и стояли посередине поляны. Их осторожно обходили. Речи Трофим не слышал, но и смотреть было интересно. Будто не один человек говорит, а играют артисты, так менялись его жесты и походка. Он вдруг вырос и пошёл страусиным шагом, высокий и нескладный хотя, конечно, расти не мог, и уж нескладным точно не был. Вокруг смеялись. Трофим рассматривал теперь каждого, а не всех вместе, как на поляне. Там он удивлялся их сходству, но уже не помнил, в чём это сходство нашёл. Один был такой же маленький как рассказчик, а впрочем, ещё меньше и так стар, что, может быть, просто ссохся. Лысая голова похожа на череп с наклеенными ресницами. Трофим определил ему лет сто десять, почему-то именно сто десять, а не ровно сто. Как и сам Трофим, он опирался на палку и ещё приложил к уху ладонь: глуховат дедушка! Возле него держалась молодая женщина: дочь или скорее внучка. Стояла за спиной, готовая подхватить. Рядом усатый, наполовину моложе и также лысый, но прикрытый клоком волос, выращенным от самого уха. Волосы, однако, сбились, открывая голую кожу. Толстоват, особо в заду – не так, чтоб уж очень, но вполне увесист. Посмеивается хитро и добродушно, трогая пальцем усы, висящие концами вниз, как у запорожских казаков. Сошёл бы за бригадира с Черниговщины, если б не белое лицо с гладкой, нежной кожей. Видно уютная прохлада библиотек ему куда ближе, чем степной ветер посевных кампаний. Одет в сорочку, вышитую по рукавам и на груди. Шёлк тонкий, вышивка ручная, бригадир на такую не раскошелится. Ещё один тоже с палкой самый высокий остановившись, приложил руку к груди и стал ею двигать, привычно массируя сердце. Единственный он смотрел не на серого, а в сторону и массировал, может быть, думая при этом – долго ли оно ещё простучит? «Этот, похоже, еврей» – подумал Трофим, опять вспомнив разговор на бульваре. И живёт же, не уезжает!
Трофим вошёл в аллею меж двумя рядами высоких ёлок, сросшихся кронами, отчего здесь царил зеленоватый полусумрак и только впереди, где аллея выходила к усадьбе, светилось ярко-синее небо. Во дворе нешироким кругом стояли подстриженные деревья, а за ними одноэтажный и длинный, совсем не шикарный виден помещичий дом. Двор забит ещё теснее поляны. Толпу движущуюся, смешанную, жужжащую рассекали, командуя, экскурсоводы, но в мегафоны здесь не орали. Свободно было только у дерева, на котором изумлённый Трофим увидел цепь. Правда, без кота. Дитя города, Трофим конечно не отличал дуб от, предположим, липы. Но, что «златая цепь» липовая, увидел и он. Простое железо, к тому же и ржавое местами. То ли дело цепь на двери дяди Марика! Даром что и она не златая.
Экскурсоводы огибали дерево далеко, хотя бы и приходилось ради того делать крюк. Туристы маневра не понимали, но шли за ними шаг-в-шаг. У дерева стоял высокий человек – очень уже немолодой, но и стариком его назвать Трофим бы не решился. Он стоял – подбородок вперёд, одна рука согнута и упёрлась в бок, другой нет, и рукав подвёрнут, заколотый булавкой. Ясно было, что он и только он командует и знает чему, когда и как должно здесь происходить. Однорукий конечно был начальство. Заместитель директора, а может и сам директор. Человек распоряжается в доме Пушкина и может в нём всё переменить и переставить! Или не может? Трофим плохо знал пределы административной власти, но, глядя на шагающих по струне экскурсоводов, решил что – может. Он посторонился, освобождая путь компании, что от самой поляны, можно сказать, с ним ползла наперегонки. Однорукий заулыбался и пошёл навстречу. Светло-серый замолчал, здороваясь, но тут же заговорил опять. Обращаясь уже к хозяину Выходило, однако, что въезд сюда запрещён не всем: на лугу за оградой появились две «волги». Не серые, а чёрные и такие блестящие, будто даже пыль их почтительно облетала. Из каждой вышел один пассажир и, не оглядываясь, пошёл, а дверца, секунду помедлив, захлопнулась, как бы сама собой. Не спеша, но и не замедляя шага, рядом, как если бы вокруг никого не было, двое миновали горбатый мостик и туристы перед ними почтительно расступались, не ожидая даже команды экскурсоводов. Оба, несмотря на жару, были в тёмных костюмах и тёмных же галстуках, а также в тёмных шляпах, надетых самым странным образом: шляпы будто не «сидели» на головах, а стояли прямо и чуть наклонясь вперёд. Этим хозяин тоже пошёл навстречу и поздоровался уважительно, однако, без подобострастия. Он, мол, чувствует себя уверенно, хотя, как положено, чтит начальство. Шедшие с поляны тоже поздоровались и пошли от дерева по аллее объединясь, но, не смешиваясь, впрочем, и трудно было, очень уж непохожи были двое в шляпах на остальных.