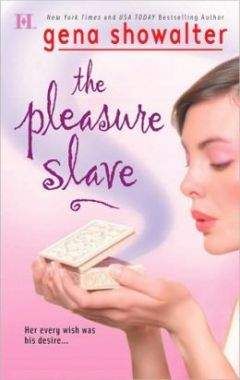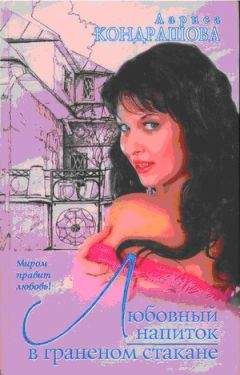– Да, он был родом из Абиссинии. И конечно, чернокожий, это общеизвестно.
– Что же, по-вашему, и Пушкин тоже негр?!
Девушка невольно открыла рот, подержала его так и закрыла. Зубы у неё были красивые. Крупноваты, пожалуй... Она, кажется, плохо понимала собеседника.
– Я спрашиваю, – голос мужчины стал требовательным, почти командным, – что же по-вашему гордость русского народа, великий поэт А..ЭС. Пушкин – негр?!! И вы публично заостряете на этом внимание? Он так и сказал «А.ЭС».
Губы девушки сложились в лёгкую улыбку и ресницы чуть опустились.
– Видите ли, – она помахала указкой возле ноги, – видите ли, – повторила она, – у Александра Сергеевича была небольшая примесь эфиопской крови. Кажется, одна восьмая, это легко посчитать. И кстати, он этим предком гордился, – её улыбка стала чуть шире. – Но в некоторых американских штатах, по тогдашним законам он считался бы негром. Теперь не знаю, а сто лет назад – обязательно. В дом к белому его могли бы и не пустить.
– Так... – сказал мужчина. – Так!
И сын его до сих пор молчавший тоже сказал – так!
И больше никто ничего не сказал. Отец ещё несколько минут откровенно рассматривал девушку, будто решал, стоит ли углубляться в беседу или лучше провентилировать вопрос освещения биографии великого русского поэта в другом месте. Сделав неутешительный вывод, он повернулся и пошёл, не прощаясь. Сын тоже повернулся и, тоже не прощаясь, пошёл вслед за отцом. Трофим, неожиданно для себя, хихикнул.
– Негр! – он хихикнул ещё раз. – Сам-то негр! – и захохотал. На него посмотрели удивлённо. Девочка в голубых штанишках и с бантом на голове сказала важно: «смех без причины – признак дурачины». Мама слегка шлёпнула её за невежливость. Совсем легко, чтоб не больно. Нехорошо делать замечания старшим, но в душе она с дочкой согласна и даже, пожалуй, гордится ею. А Трофим уже не жалел об отсутствии Ашота Карповича. Он ездил на экскурсию в Тригорское и гулял в лесу. Экскурсанты окружили директорского гостя, вышёдшего проветриться; его рубашка «демократка» была распущена шнуровкой на груди, щёки зарумянились от свежего ли воздуха, или от чего другого. На гостя смотрели почтительно, зная, видно, про него что-то, неизвестное Трофиму. Высокая девушка с испугом в глазах заговорила, смущаясь. Гость еле доставал ей до уха, но она исхитрялась глядеть на него снизу вверх.
– Вот я слышала, – девушка потянула носом, хотя насморка у неё не было, да и какой в жару насморк? – вот я слышала, – продолжала она, стесняясь даже собственного голоса, – будто у каждого человека... будто... ну... будто, – от смущения девушка остановилась но, глубоко вздохнув, начала снова. – Я слышала, будто у каждого человека свой Пушкин. И на других не похожий. То есть похожий, но, в общем, другой. Всё равно другой. Да? – она хотела отступить за спины товарищей, но гость смотрел в упор, и прятаться было невежливо. Тогда она хлопнула ресницами и покраснела ещё больше. – А у вас тоже есть свой Пушкин, да? – собеседник не сводил с неё глаз. Ещё помолчал и ответил.
– Конечно, – ответил он, – конечно. – И у меня тоже свой Пушкин. – И ещё подумав, добавил: – Даже два.
– Два? Как это? Почему?!
– Ну-у... Один величавый, торжественный, непререкаемый. А другой собственный, домашний. С этим можно не соглашаться, спорить и даже склочничать.
– Зачем?
– Чтобы всякий раз быть побеждённым. Человеку необходимо время от времени чувствовать себя побеждённым, – он вздохнул, ещё раз улыбнулся и ушёл не останавливаясь. А девушка так и смотрела вслед, и её большие глаза сразу вытеснили из мыслей Трофима тёмные речи гостя в «демократке».
Ещё раз встретил Трофим однорукого. Тот шёл деловым, быстрым шагом, глядя вперёд и вниз. Увидав бумажку от конфеты, нагнулся, поднял, сунул в карман. Дальше валялась ещё бумажка. И её тоже поднял, что-то пробурчав недовольно. «Не директор» – подумал Трофим с сожалением. Однорукий ему нравился.
Смеркалось, когда, одолев тридцать семь высоких каменных ступеней монастырской лестницы, он поднялся к могиле. Рассекая предвечернее небо, узко белела мраморная стрела. Под ней сверкнула золотая надпись: «АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН».
2.
– Восторги-то поумерь, – усмехнулся Иван Афанасьевич. Пушкин в этом заповеднике ничего бы не нашёл и не узнал. Как тут было на самом деле, никому не известно: имение разграблено мужиками в революцию, дом сожжён во время войны. Ты видел не музей, а спектакль. Фантазии директора. Высокий, с одной рукой. Зовут Гейченко. Видал?
– Видел, – обрадовался Трофим, своей догадке. Так это и в самом деле директор?
– Ещё какой! Великий репетитор! Достоверно только, что Пушкин жил на этой земле, по этим местам ходил и ездил. Стихи писал. Не так уж и мало!
– А могила?
– Могила настоящая. Это верно. Верней могилы, пожалуй, у человека ничего не бывает, хотя и тут известна «липа» – Трофим вспомнил дерево и цепь на нём, а Иван Афанасьевич вздохнул и улыбнулся.
Через день Трофим уезжал из больницы.
– На свободу в новых валенках, – сказал доктор, увидя толстые суконные брюки Трофима, купленные в здешнем магазине. Выбора не было. Зато дёшевы, надо отдать справедливость.
– Ах, – вздохнула Альбина, широко поводя бедром, – Ах бросаешь ты нас, Трошенька! Ах, не пожалей, мальчик! А то останешься у меня до завтра? Может, понравится? – она весело блеснула глазом.
Иван Афанасьевич вышел к воротам.
– Ну, Трошка, – сказал он, – теперь ходи сам. О переломах скоро забудешь, но в старости станешь барометром. Все дожди предскажешь и тут медицина бессильна.
– Спасибо вам, Иван Афанасьевич, – сказал Трофим.
– Не за что. Я врач, моё дело такое – лечить. Делаю его, как умею.
– Всё равно спасибо, – сказал Трофим. – Не только за лечение. Вообще.
– Ну, разве что «вообще». – Доктор помолчал – «ВообщЕ, ещЕ, пищЕ, нищЕ» – сказал он вдруг, ставя ударения на концах слов.
Помолчали.
– Попадёшь случайно в наши края – заверни, – сказал Иван Афанасьевич, и это был конец разговора. Оставалось попрощаться и идти. – Я буду рад, – добавил доктор.
– Я не случайно, – сказал Трофим. – Я обязательно приеду в больницу к вам. И письмо напишу. Можно?
– Можно, – сказал Иван Афанасьевич, – Даже нужно.
Теперь и в самом деле разговор был закончен.
– Пора. К автобусу опоздаешь.
И Трофим пошёл по улице мимо зелёного больничного забора. Потом забор остался позади и исчез, скрытый за домами, только высилась над крышами осина и вокруг неё, как всегда, сновали птицы. А от автобусной станции уже и осины видно не было. Трофим успел купить билет и сразу подошёл автобус большой, как те, на поляне. Но этот не выглядел отдыхающим, донельзя набитый пассажирами, еле вмещая чемоданы, сумки, баулы с висячими замочками, он остановился возле перрона и колёса уже были повёрнуты влево на дорогу, и готовы сразу отъехать. Трофим с трудом, подтягиваясь руками на поручнях, влез на высокую ступеньку и дальше в салон. Попутчики уступили место, по-деревенски вслух жалея молодого калеку. Усевшись, он глянул в окно на небольшую площадь с церковкой посередине. Маленькая, одноглавая, она всё-таки оживляла пейзаж белой вертикалью стен и зеленью купола, покрашенного в один цвет с больничной крышей, но лучше, старательнее. Двинувшись, автобус въехал с разворота на узкий деревянный мост и миновав его, снова повернул круто. В солнечных лучах блеснули окна домов – Трофим вдруг уснул и проспал до станции, где нужно было пересесть в поезд. Поезд приходил только через полтора часа. Ещё можно было пообедать в вокзальном ресторане. До сих пор Трофим ел дома, в столовой или в цирковом буфете, но тут первый обед после больницы. Надо отметить!