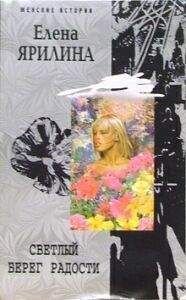— Будьте спокойны, — ответила ему г-жа де Нансэ, — если он таков, как вы говорите, то он не будет часто бывать у Жюльетты.
И она со снисходительной иронией сообщила дочери о тревогах их общего друга. Г-жа де Тильер рассмеялась. Шутка по поводу странной ревности и безупречное поведение Казаля при двух или трех встречах усыпили старушку в ее безграничном доверии к своей дочери, тем более что последняя не без упрека себе прибавила, говоря о Раймонде:
— Это один из близких друзей г-жи де Кандаль.
Д'Авансон, потерпев неудачу с этой стороны, в чем убедился из нового разговора с г-жею де Нансэ, прибегнул к тем двум из пяти завсегдатаев салона г-жи де Тильер, которые были в Париже, а именно к Миро и Аккраню. Он знал, насколько Жюльетта была привязана и к тому, и к другому. Если бы оба пришли сообщить ей, что общественное мнение уже занимается ухаживанием за ней такого скандального кутилы, как Казаль, то без сомнения она заставила бы молодого человека бывать у себя реже. Но вмешивать таким образом друзей, которые могли бы не знать, что Казаль бывает у Жюльетты, из-за удовлетворения своей личной мелочной мести, было крайне неделикатно. Несчастный же дипломат уже не сознавал, что в этом случае он действовал лишь из эгоистических побуждений. Встретив более холодный прием, чем обыкновенно на улице Matignon, после своей попытки восстановить мать Жюльетты против Казаля, он начинал жестоко страдать от своего нового положения; и если не дошел еще до подозрения, что Жюльетта влюбилась в Казаля, то не слишком ошибался, смутно чувствуя опасность в той близости, которая сперва его только неприятно поразила. Придя однажды в мастерскую Миро с целью предостеречь его, он был искренно убежден, что этим самым служит интересам своего лучшего друга.
Артист жил на улице Viete, отеле, смежном с тем, который занимал когда-то его товарищ, ныне, — увы, — умерший итальянский художник Нитис, у которого все эти годы собирались изысканные любители искусства и утонченные писатели. Под влиянием этого влюбленного в современность неаполитанца Миро изменил свою манеру писать: он изобрел новый жанр портретов пастелью, помещая их в рамки обычной обстановки. В это время он особенно славился своей великолепной картиной — цветы. Подобно многим художникам, имеющим почти женскую кисть, этот мастер изящества обладал атлетической наружностью с широкими плечами и профилем Франциска I. Этот странный контраст между внешностью человека и характером его творчества наблюдался не раз, ему нельзя найти объяснения ни у Delacroix, этого тщедушного исполнителя могучих произведений, ни раньше у Пюже, ни, вероятно, у самого Микеланджело. У Миро и весь остальной нравственный облик находился в таком же несоответствии с внешностью. В характере этого Геркулеса крылись девичья мягкость, детская застенчивость, наивная потребность в покровительстве и баловстве, пугающие вас так же, как пугает ласка огромного пса, сильного, как лев, и вместе с тем более смирного, чем маленькие собачонки. Именно благодаря частому повторению таких аномалий создался образ доброго гиганта, фигурирующий в стольких легендах, и самым популярным воплощением которого был Портос жизнерадостного и гениального Дюма. Когда д'Авансон вошел в мастерскую, художник стоял перед своим мольбертом и писал букет белой, шафранной и красной гвоздики. По обыкновению он был роскошно одет в черный бархат и прищуривал свои черные глаза, чтобы лучше видеть. Тонкость кисти, достигаемая этой могучей рукой, способной разломать пятифранковую монету, была прямо волшебной. Он прекрасно принял дипломата, продолжая вместе с тем и рисовать и разговаривать, с тем умением заниматься двумя вещами за раз, которое служит доказательством того, что в таланте художника есть чисто механическая, почти ремесленная сторона. Это также одна из причин, почему они всегда остаются в жизни веселыми, между тем как писатель, все больше и больше принужденный вести сидячий образ жизни и постоянно погружаться в свою работу, становится все грустнее. Д'Авансон был слишком светский человек, в плохом смысле этого слова, чтобы не почувствовать легкого презрения к такой натуре, а потому редко посещал улицу Viete. Он даже рассчитывал, что редкость его посещений придаст большое значение его открытию, что между Казалем и Жюльеттой завязалась дружба. Такой расчет доказывал, что д'Авансон не принимал в соображение той особенной проницательности, которой обладает большинство артистов, когда не задето их тщеславие, как художников. Рисуя разбросанные лепестки прелестных цветов с обычной добросовестностью, Миро также задавался вопросом, что привело к нему дипломата. По звуку голоса, которым этот последний начал свои расспросы, он сразу догадался, в чем дело.
— Способны ли вы оказать действительную услугу г-же де Тильер? — И д'Авансон начал уже выслушанный г-жею де Нансэ рассказ, придав ему соответствующий обстоятельствам оттенок.
По мере того как он говорил, ясные глаза художника омрачались беспокойством. Одна мысль позволить себе сделать Жюльетте какое-нибудь замечание заставляла так сильно дрожать руки бедного малого, что он положил палитру и кисти, и просто и логически ответил ему:
— А почему же сами вы не скажете ей всего этого?
— Да потому, что я в плохих отношениях с Казалем, — отвечал д'Авансон. — Исходя от меня, совет этот не имел бы никакого значения.
— Но, — возразил художник, — я, наоборот, с ним очень хорош, и клянусь вам, что вы ошибаетесь на его счет. — В восторге от выдуманной им увертки, он взял свои принадлежности и начал опять рисовать, воспевая Раймонду похвалы, которые дипломат, в свою очередь, должен был выслушать: — Вы знаете, он очень умен!.. Он немного развлечет ее, — в чем же тут зло?.. Будучи лишь прямым и искренним художником, я сужу светских людей по одному маленькому обстоятельству. Когда я слышу, что один из этих салонных знатоков говорит о картинах, я знаю, чего держаться. Я говорю себе: ты, мой мальчик, кроишь, режешь и ничего в этом не понимаешь, ты только хвастун. Если же ты не претендуешь на то, чтобы учить меня моему искусству, это доказывает, что ум твой хорошо организован… Так и вы, д'Авансон, вот уже полчаса, что я рисую перед вами, а вы еще не дали мне ни одного совета. Вот, друг мой, в чем заключается такт. А у Казаля его много, и к тому же у него есть вкус.
— Вот что значит артистическая гордость, — ворчал старый красавец, четверть часа спустя спускаясь по авеню de Villiers. Он действительно добрый малый, как сам себя называет, и любит Жюльетту от всего сердца. Вероятно, Казаль преподнес ему какой-нибудь комплимент по поводу одной из его картин, и он уже попался. Но пойдем к Аккраню. Он человек суровый, и лестью его не подкупишь!