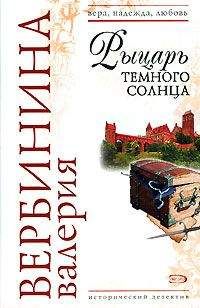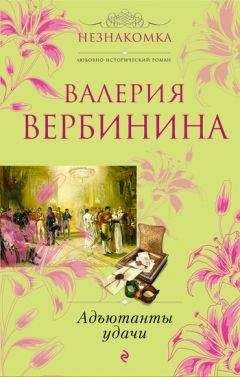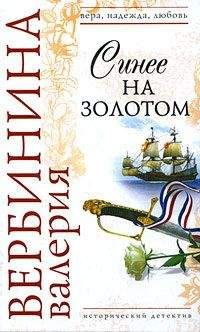– Господи, что это? – простонала Мадленка, теряя голову и даже забывая о своих измочаленных ребрах и разбитом носе.
А было вот что: в подземелье жутко воняло. Замечу, то был не аромат духов – ни в коем случае; и не запах из числа тех, что коллекционировал великолепный господин Гренуй из романа Патрика Зюскинда, – о нет! То была вонь, стойкая, невыносимая, лишь усугублявшаяся спертой атмосферой места заключения, вонь, от которой делалось прямо-таки дурно. Мадленка разинула рот, жадно, как рыба, глотая воздух. Сначала ей пришло в голову, что наступил ее последний час, затем – что он еще не наступил, к несчастью. Собрав все свои силы, Мадленка ухитрилась подняться. Сделав два шага влево, она нащупала-таки стену и в полной темноте двинулась по ней в глубь подземелья, туда, где, очевидно, находился источник невообразимого амбре. (Сообразительный читатель уже, наверное, догадался, чем оно было вызвано, но так как перед вами как-никак детективный роман, то у меня к вам огромная просьба: не сообщать о своей догадке другим. Ручаюсь, впрочем, в одном: ни у Дюма, ни у Вальтера Скотта, ни даже у Генрика Сенкевича вы такого не встретите.)
Сопя, Мадленка ползла вдоль стены, левую руку держа у болезненно ноющих ребер. Так как она была образованна и весьма – для своего времени – начитанна, в голову ей лезли всякие неприятные мысли о сере, которой воняет в преисподней, и о чертях, в ней обитающих. Через каждые два или три шага она поспешно крестилась, но вонь от сего простого движения ничуть не убывала, вони было хоть бы хны, стало быть, черти тут определенно были ни при чем. Мадленка немного приободрилась и совершенно неожиданно для себя наступила ногой на что-то мягкое.
– А-а-а! – дико завопила Мадленка, с проворством серны отпрыгивая назад.
– А-а-а! – завопило мягкое, гремя цепями.
Мадленка рухнула на колени и зажала руками уши, уверенная, что сейчас на нее обрушится весь замок Диковских или произойдет что-то еще, столь же ужасное. Тому, на что она наступила, видимо, надоело орать, и оно разразилось потоком весьма энергических слов на совершенно непонятном языке, куда неведомо как закралась и пара ругательств наподобие тех, которыми фон Ансбах угощал поляков. Услышав знакомые слова, Мадленка малость осмелела.
– Ты кто? – спросила она по-польски.
То, на что она наступила, звякнуло цепями и умолкло. Мадленка поскребла подбородок. Похоже, ее собеседник не понимал по-польски.
– Loquerisne linguam latinam[5]? – спросила она наконец.
Наступила тишина, и Мадленка слышала только, как стучит сердце в ее груди да тяжело дышит закованный в цепи напротив нее.
– Loquor[6], – проворчал наконец из темноты обладатель цепей. Он хмыкнул и гордо добавил: – Pax vobiscum![7]
– Похоже, ты не очень силен в латыни, а? – проницательно заметила Мадленка. – А как насчет немецкого? Эй, герр, как вас там?
– Филибер де Ланже, – донеслось из темноты.
– Филибер де Ланже? – недоверчиво повторила Мадленка, пытаясь вспомнить, о чем ей напоминает произнесенное имя. – Слушай, а ты не знаешь случаем, что здесь такое воняет?
– Воняет? – удивился ее собеседник. – По-моему, здесь ничем не воняет.
– Э, бедняга, да ты, должно быть, уже привык, – сочувственно заметила Мадленка. Она наморщила свой маленький, сейчас разбитый носик и тут же вскочила с места, горя возмущением. – Слушай, да ведь это от тебя так несет! Ну просто черт знает что такое!
– Я не виноват! – огрызнулся пленник. – Все время, пока я здесь, мне подают одну вонючую гнилую капусту, будь она неладна. Я не привык к проклятой польской пище! Принесите мне молочного поросенка, черт возьми, жареного гуся и наше доброе вино! Ох, господи, с каким бы удовольствием я прикончил того, кто придумал капусту! Я бы самого его в капусту изрубил, честное слово, – сладострастно продолжал пленник. – Да еще чертов Боэмунд все мешкает! Когда, наконец, он привезет за меня выкуп? Я устал торчать здесь!
– Боэмунд? – подпрыгнула Мадленка, внезапно все поняв. – Ты хочешь сказать, Боэмунд фон Мейссен?
– А ты его знаешь? – заволновался Филибер де Ланже, гремя цепями.
– Знал, – проворчала Мадленка. – Похоже, тебе не повезло, рыцарь. Товарищ твой умер. Он вез за тебя выкуп, но по дороге сюда на него напали.
– Чего еще хорошего ждать от поляков. Отродья сатаны! – вскричал крестоносец и в немногих весьма емких словах выразил все, что он думал о князе Диковском, ублюдке из ублюдков, короле Владиславе, еретике и литовском отродье, о Польше, положительно худшей из всех стран, где ему довелось побывать, и опять же о капусте, которую в недобрый час вывел какой-то негодяй, поклявшийся извести недержанием кишечника весь славный род де Ланже.
– Господи, как же меня несет от капусты! – стонал крестоносец. – Какие только молитвы я не читал, ничего не помогает. Так, значит, Боэмунд погиб? Ох, упокой, господи, его душу! Лучший рыцарь был и товарищ – вернее не сыскать. Он бы точно меня выручил, я знаю. Как он умер?
Мадленка рассказала о своей встрече с Боэмундом, опустив подробности, по ее мнению, не относящиеся к делу, и, не удержавшись, поведала о том, как фон Ансбах явился из Торна за телами павших и что затем вышло.
– Фон Ансбах – молодец, но Боэмунд был лучше, – заявил Филибер. – Веришь ли, сама смерть его сторонилась, ни разу не был он ранен, и никто не мог его одолеть в схватке. Я однажды видел, как он с одной мизерикордией, когда меч сломался, шутя разделался с тремя поляками. Честное слово!
Мадленка вздрогнула, вспомнив одновременно причитающего пана с лошадиным лицом и место, где она в последний раз видела мизерикордию. Господи, кто же мог решиться на такое, поднять руку на саму высокородную княгиню Гизелу Яворскую?
– Ты чего дрожишь? – спросил рыцарь.
– Ничего, – сказала Мадленка. – Ты что, меня видишь? – с внезапно пробудившимся любопытством спросила она. – Но как?
– Я сорок три дня уже торчу здесь, – горько промолвил рыцарь и вновь зазвенел цепями. – Привык к темноте и вижу почти как днем. Как тебя звать, юноша?
– Михал Краковский. А за что ты здесь?
Филибер хмыкнул.
– Попался на глаза людям князя, когда возвращался из родного Анжу в Мальборк.
– М-да, плохо, – посочувствовала Мадленка. – У тебя что, охранной грамоты не было?
– Была, – признался рыцарь, – но, похоже, я ее потерял.
– А Анжу – это где? – поинтересовалась Мадленка. – Далеко?
– Далеко, – вздохнул рыцарь.
– Ближе Парижа или дальше?
Географические представления той поры были примерно таковы: если встать лицом к северу, то Иерусалим, град спасителя, будет примерно справа, а Париж, Мадрид, Лондон, Лиссабон – примерно слева. Земля плоская, и в ней три части: Европа, Азия и Африка.