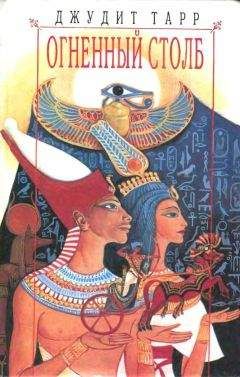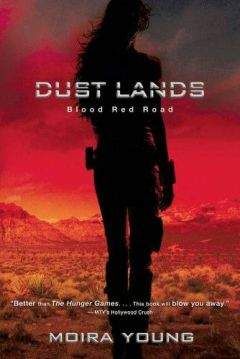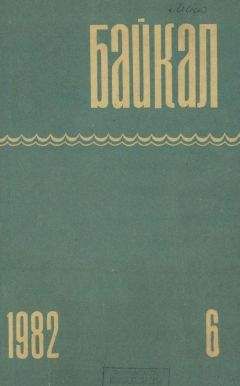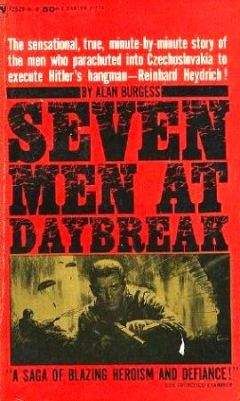Нофрет всячески пыталась расшевелить свою госпожу, но та ни на что не реагировала. С тех пор как прибыл Сменхкара, она стала крайне неразговорчива.
Церемония погребения Нефертити и ее младших дочерей состоялась в безжалостно жаркий день. Пустыня была раскалена. Солнце било по голове, словно молот по наковальне. Узкая долина, ведущая к царской гробнице, казалась еще круче и каменистей, чем всегда, и удушающе жаркой.
Плакальщикам следовало быть равнодушным ко всему, кроме их безутешного горя. Они толкались среди жрецов с погребальными носилками, мокрые от слез и пота. Их стенания эхом отдавались в плавящемся от жары небе.
Нофрет плакала вместе с ними, потому что это избавляло от необходимости думать, и пристально наблюдала за своей госпожой. Царевна, рыдая, плелась за отцом, бледная, с пустыми глазами.
Похоронная церемония была скомкана из-за жары. Поминальную трапезу совершили поспешно, и большая часть угощения осталась для духов умерших. Царь хотел было задержаться, но Сменхкара, мягко уговаривая и подталкивая брата, увлек его к выходу.
Царевич не пытался бросаться на гробы, как Нофрет приходилось видеть на других похоронах. Он ничего не ел, но и не плакал. Его скорбь была внутри, он будет беречь и питать ее, чтобы не забыть.
Мертвые легли на покой. Это хорошо. Их умерло так много и так безвременно, что некоторые, конечно, должны были преследовать своих родственников. Но Нофрет не видала беспокойных духов и не слышала о них с тех пор, как люди перестали умирать. Все духи ушли прочь.
Она сказала свое «прости» царице Нефертити и трем маленьким царевнам. Детский смех и шалости царевен, надменная холодность и скрытый свет теплоты царицы были уже очень далеки отсюда. Четыре каменных саркофага во тьме содержали лишь пыль и высохшие останки.
Куда бы ни пошли их души, Нофрет желала им добра. Никто из них никогда не делал ей ничего дурного.
А если бы это был царь…
Она споткнулась, спускаясь по долине вслед за царевной. Нога подвернулась, но девушка не упала. Она проклинала камни и собственную неловкость, но даже в раздражении сознавала, что споткнулась не поэтому.
Нофрет ненавидела царя.
Нет, не так сильно. Она презирала его. Ненавидела то, что он совершал во имя своего Бога, что делал с младшей царевной, высасывая всю ее жизнь и душу, превращая в бледную тень прежнего существа.
Анхесенпаатон старалась быть сильной, пыталась быть достойной памяти своей бабушки, быть царицей, а не полувзрослым ребенком. Но она слишком юна, а бремя слишком тяжко. Ей не выдержать его.
Это была вина царя. Он уже убил одну дочь. Теперь убивает другую.
Нофрет сжала кулаки. Царь брел перед нею — неуклюжая, лишенная всякого достоинства фигура в этом безжалостном месте. Следом за ним шел стражник, и кинжал болтался в ножнах у него на боку. Один прыжок — и все, одно стремительное движение, и она сможет выхватить клинок и погрузить в узкую спину царя.
Это даже не будет убийством. Скорее, казнью. Избавлением от безумца. Нофрет, конечно, умрет, но слишком быстро, чтобы почувствовать боль.
Она измерила взглядом расстояние и пошевелила пальцами, уже чувствуя очертания рукоятки и сопротивление лезвия, нашедшего цель.
Позади споткнулась Анхесенпаатон. Ее кожа покрылась мурашками. Лицо стало зеленовато-бледным. Дыхание было слишком частым и прерывистым.
— Воды! — закричала Нофрет. И еще громче: — Воды, сюда, скорее! Ее высочеству дурно от жары.
Глотнув воды, Анхесенпаатон сразу же пришла в себя. Она отогнала встревоженных, попыталась оттолкнуть зонтик, который Нофрет отняла у перепуганного раба, но та не позволила. На обратном пути в Ахетатон Нофрет сама правила колесницей царевны, пока ее госпожа отдыхала, насколько было возможно, под зонтиком.
И царь продолжал жить. Он сказал бы, что вмешался Бог, чтобы удержать Нофрет от убийства. Девушка же предпочла думать, что это случайность — и возможность, какая может больше не представится. Она была дочерью воина, но не могла убить человека, даже такого, хладнокровно.
«И очень жаль», — сказала она себе, уже въезжая в город.
Когда закончились дни траура по царице и детям, царь собрался со всем двором в большое путешествие вверх по реке, в Фивы. Сменхкара отправился вперед, чтобы приготовить город к тройному торжеству: погребению царицы-матери Тийи, победе царя и его Бога над чумой и женитьбе и коронованию царевича. Царь тоже собирался сыграть свадьбу с третьей из своих дочерей, но более скромно.
И вовсе не потому, что он стыдился своих действий. Царь говорил, что пришло время Сменхкары, и он должен быть на виду, чтобы все восхищались им. Иногда ему нравилось быть щедрым и великодушным.
Царь, придворные, охрана, прислуга и просто бездельники с песнями двигались в гребных судах вверх по реке. Будущий царь плыл на своем сверкающем корабле вместе с невестой. Сменхкара сидел на золоченом кресле, Меритатон стояла, опершись на поручень, пока он не усадил ее, смеющуюся и протестующую, себе на колени.
Жених и невеста, полные света и веселости, совершенно забыли о резном расписном саркофаге, который везли на барже далеко в конце процессии, в сопровождении жрецов и плакальщиц. Даже сам царь, казалось, позабыл, что везет хоронить мать, глядя на этих двоих, которые так наслаждались настоящим.
Жители Ахетатона слишком редко смеялись. Ни царь, ни его царица не были веселыми людьми. И их дети учились у них. Но у Меритатон теперь появился новый наставник, а он жил весело. Сменхкара в избытке обладал той легкостью и раскованностью, которой не хватало его брату, как будто Бог дал все темное одному, а все светлое другому.
Царь смотрел снисходительно, лежа на кушетке под навесом, и легкий речной ветерок холодил его щеки. Нофрет видела, что это ему приятно. Но Анхесенпаатон ничего не замечала.
Словно статуя из слоновой кости, она сидела у ног отца, не слыша смеха, звеневшего над водой, не видя блеска солнца на золоченых веслах, не улавливая запаха речного ила и рыбы, зеленых тростников и цветов, запаха великой реки Египта. Среди лодок с прислугой внезапно вынырнул крокодил. Его отогнали веслами и копьями, с визгом и криками. Она даже не обернулась на шум. Глаза ее были пусты, словно резные камни. Нофрет казалось, что сердце Анхесенпаатон так же безжизненно, как царица-мать в своем гробу.
Не только грядущее замужество лишало ее госпожу жизненной силы. Мать-царица умерла, сестры тоже, кроме единственной, которая ничего не видела, ничего не слышала и ни о чем не желала думать, кроме своего прекрасного царевича. Царица-мать, обожаемая ею, ушла в могилу, оставив царицей ее, в сущности, ребенка. Для нее это было слишком много.