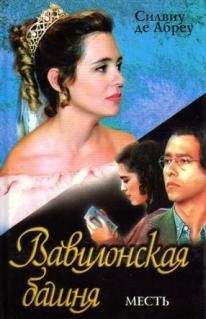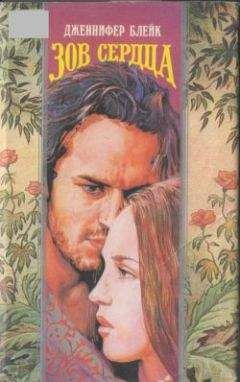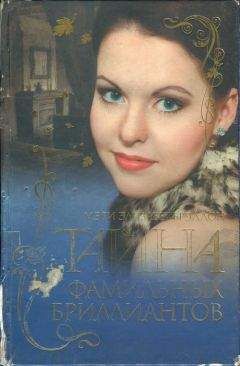Между тем Люси по-прежнему была у него в ногах, и в эти мгновения она не просто стояла на коленях — она раболепствовала перед ним! Ее тонкое белое платье разметалось по полу; ее волосы упали бледной волной на плечи; ее большие голубые глаза поблескивали в сумерках. Она сжимала черную ленточку, свисавшую с ее шеи, сжимала так, словно эта ленточка душила ее.
— Вы ждете от меня слишком многого, — повторила она. — Я себялюбива с самого детства.
— Люси, Люси, скажите прямо: я вам не нравлюсь?
— Не нравитесь? Вы? Ах, нет, нет!
— Может, вы любите кого-то другого?
Она громко засмеялась.
— Я никого не люблю. Никого в целом мире.
Он был счастлив, услышав такой ответ, но ее странный смех был ему неприятен. Чуть помолчав, он с заметным усилием промолвил:
— Что ж, Люси, я не буду ждать от вас слишком многого. Я знаю, что я — старый болван с романтическими вывертами, но если я не вызываю в вас отвращения и неприязни и если вы никого не любите, не вижу причин, почему бы нам не стать счастливой парой. Итак, по рукам, Люси?
— Да. Я согласна.
И он поднял ее, и поцеловал в лоб, и затем, тихим голосом пожелав ей доброй ночи, вышел из дома, не задержавшись ни на минуту.
Он вышел немедленно, этот глупый стареющий джентльмен, потому что сердце у него билось часто-часто. Нет, он не чувствовал ни радости, ни торжества, — он чувствовал нечто похожее на разочарование, и неудовлетворенное желание саднило и раздражало его. Слова Люси убили в нем надежду. Как и всякий мужчина его возраста, он знал теперь совершенно определенно, что ему уступили, рассчитывая на его состояние и положение в обществе.
Тем временем Люси Грэхем медленно поднялась по лестнице и вошла в свою комнатушку. Поставив тусклую свечу на ящик с рисовальными принадлежностями, она присела на край кровати.
— Вот и все, — сказала она. — Конец моей зависимости, конец тяжкой, нудной работе, конец унижениям. Все, что было в моей прошлой жизни, исчезло. Все, что может рассказать, кто я такая и откуда, похоронено и забыто. Все кроме этого, кроме вот этого.
Она сняла черную ленточку и взглянула на то, что было на ней: не медальон, не миниатюра и не крестик — это было кольцо, завернутое в продолговатый клочок бумаги, покрытый печатными и письменными буквами, пожелтевший от времени и измятый многочисленными сгибами.
Он бросил в воду недокуренную сигару и, облокотившись о фальшборт, задумчиво взглянул на волны.
— Голубая, зеленая, опаловая, — сказал он. — Опаловая, голубая, зеленая… Скука смертная! Все бы ничего, но три месяца такой жизни — это слишком долго, особенно когда…
Он оборвал фразу. Похоже, на самой ее середине ему пришла в голову мысль, которая унесла его за тысячу миль отсюда.
— Бедная девочка, то-то она обрадуется! — пробормотал он, открывая ящик для сигар и с отсутствующим видом рассматривая его содержимое. — То-то обрадуется, то-то удивится! Бедная девочка! Ведь прошло три с половиной года: то-то удивится!
Это был молодой человек лет двадцати пяти. Смуглое лицо, бронзовое от загара, красивые карие глаза, в которых играла женственная улыбка, искрившаяся из-под черных ресниц, густая борода и усы, закрывавшие всю нижнюю часть лица. Он был высок, атлетического телосложения, в просторном сером пиджаке и фетровой шляпе, беззаботно нахлобученной на копну черных волос. Звали его Джордж Толбойз, и был он пассажиром из кормовой каюты «Аргуса», доброго судна, следовавшего на всех парусах из Сиднея в Ливерпуль с грузом австралийской шерсти.
Вместе с ним кормовую каюту занимали еще несколько пассажиров первого класса. Пожилой торговец шерстью, сколотивший состояние в колонии, возвращался с женой и дочерьми; тридцатипятилетняя гувернантка ехала домой, чтобы выйти замуж за того, с кем была помолвлена уже целых пятнадцать лет; сентиментальная дочь богатого австралийского виноторговца направлялась в Англию, чтобы завершить образование.
Джордж Толбойз был на судне главным заводилой и душой компании. Никто не знал, кто он, чем занимается и откуда следует, но нравился он всем и каждому. Толбойз сидел во главе обеденного стола рядом с капитаном, помогая ему воздавать должное искусству судового повара. Он открывал бутылки с шампанским и пил со всеми, кто подворачивался под руку. Он рассказывал забавные истории, и сам при этом смеялся так заразительно, что нужна была железная выдержка, чтобы не покатиться со смеху вместе с ним. Он бесподобно играл в «спекуляцию» и «двадцать одно», завладевая всеобщим вниманием настолько, что, пронесись в эти минуты ураган — никто бы и ухом не повел.
Живость мистера Толбойза создала у окружающих несколько преувеличенное представление о его учености.
Бледная гувернантка пыталась завести с ним разговор о последних новинках литературы, но Джордж лишь несколько раз дернул себя за бороду, промолвив: «О да!» и «Еще бы, конечно!».
Сентиментальная молодая леди — та, что собиралась завершить образование, — заговорила было с ним о Шелли и Байроне, но Джордж Толбойз просто рассмеялся ей в лицо.
Торговец шерстью хотел втянуть его в политическую дискуссию, но оказалось, что в вопросах политики Джордж невинен, как младенец.
Кончилось тем, что его оставили в покое, дав возможность жить так, как ему заблагорассудится: курить сигары, болтать с матросами, глазеть на воду и нравиться людям таким, каким он был на самом деле.
Но когда до Англии оставалось недели две ходу, Джордж Толбойз — это заметили все — резко изменился. Он стал беспокойным и суетливым, порою казался таким веселым, что каюта звенела от его хохота, порою был задумчивым и мрачным. Уж каким любимчиком он ни был у матросов, однако и они начали сердиться, выслушивая его бесконечные вопросы об одном и том же. Когда будем в Англии? Через десять дней? Через одиннадцать? Двенадцать? Тринадцать? Ветер попутный? Какая скорость у судна, сколько узлов? А однажды неведомая сила выгнала его на палубу, где он устроил скандал, обозвав «Аргус» старым корытом, а его владельцев — прохвостами, обманом добывающими себе клиентов, давая заведомо ложную рекламу. «Аргус» не выдерживает график! На «Аргусе» впору не людей перевозить, а скотину! Вот-вот, пусть перевозит проклятую шерсть! Пусть она сгниет по дороге, и вообще, пропади все пропадом!
Долго еще бушевал Джордж Толбойз в тот августовский вечер на палубе «Аргуса», и матросы, чтобы успокоить его, сказали, что придется подождать десять дней, прежде чем английский берег покажется на горизонте.
— Да я готов доплыть до него хоть в яичной скорлупе! — в сердцах воскликнул Толбойз.