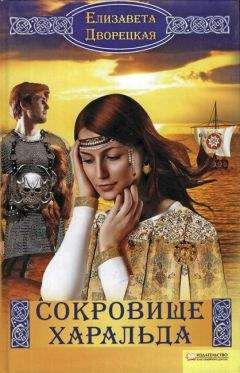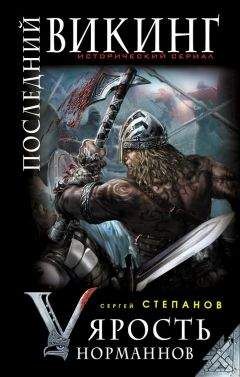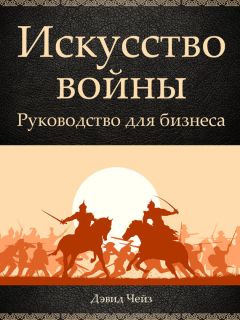К воинам отцовской дружины — и к северным хирдманам, и к славянским кметям — Елисава относилась дружелюбно, унаследовав эту привычку от матери. Ведь эти люди были вокруг нее всегда, с самого рождения, и она привыкла к ним почти так же, как к своим нянькам и прислужницам. «Мои игрушки» и «наша дружина» с самого младенчества были для Елисавы одинаково знакомыми понятиями. «Вот это — наши стены!» — говорила ей мать, показывая на мужчин с мечами. Они всегда находились где-то рядом: стояли в сенях, сидели в гриднице, толпились во дворе, сопровождали во время прогулок и поездок. Отделяли от толпы, грязноватой, блекло одетой, крикливой, зачастую — недобро настроенной. Делали ее, Ярославну, тем, кем она была, создавали ее отличие от босоногих девок, одетых в единственную рубашку. Иной раз они тоже сердились, кричали, чего-то требовали от отца, буянили на пирах, дрались между собой и казались опасными, но потом всегда успокаивались. Князья были нужны им не меньше, чем они были нужны князьям, и Елисава знала: как она видит в них свою защиту и опору, так и они видят в ней источник своего благополучия. Подрастая, княжна чуть-чуть заигрывала с ними, пробовала на них свое искусство быть женщиной и понимала, что для этих парней, которым едва ли когда-нибудь случится завести семью, она — прекрасная дева из сказаний, царская дочь в башмачках из чистого золота, недостижимая мечта, скрашивающая порой скучноватую жизнь.
Ей было известно, что в действительности жизнь удалых молодцев с роскошными воинскими поясами далеко не так красива, как в хвалебных песнях или сказаниях. Выбитые зубы, негнущиеся пальцы, скособоченные носы, уродливые шрамы, опухшие от пива и браги лица, незаживающая язва на тыльной стороне левой кисти — от щита. А еще — стойкий запах дружинного дома, обиталища множества одиноких мужчин; их словечки, которых Елисава якобы не знала, и байки о невероятных приключениях и великих подвигах; ссоры из-за женщин и клятвы верности друг другу до последнего, до тех четырех локтей земли, где их, в конце концов, зароют, — как правило, очень далеко от тех мест, где они родились. Иногда кто-то из них погибал. Появлялись новые — молодые неумелые парни. Иные из них тоже погибали, не успев ничему научиться. А если кто-то вспоминал о том, что было двадцать лет назад, на него смотрели как на внезапно проснувшуюся вещую вёльву. Некоторые из воинов знали, казалось, всего три-четыре слова, и то бранных, но вполне обходились ими; другие, пообтесавшись при дворах разных государей, побывавшие за далекими морями, в странах, о которых только в Библии и сказано, могли удивить обширностью знаний и красноречием. Одни происходили из знатных воинских родов, другие, родившиеся после посещения княжьей дружиной какого-нибудь погоста или села, вообще не знали отца и были в семилетнем возрасте отправлены в дружину, которая и поспособствовала их появлению на свет. С десяток таких мальчишек вечно носилось с дикими воплями по двору перед дружинным домом, размахивая деревянными мечами, а пара бывалых дядек присматривала за ними, вспоминая меж собой дела далекой молодости.
— Ты сам хотел говорить с князем или тебя попросил Ульв? — осведомилась Елисава, обращаясь к Бьёрну.
— Я его еще не видел, — ответил варяг. — Мне самому весьма любопытно, как конунг принял то, что услышал вчера.
— Нам ведь известно, каким способом здесь расправляются с наемниками, которые забывают свое место, — добавил Альмунд. — И я не желал, бы однажды проснуться с перерезанным горлом.
— Тебе это не грозит, с перерезанным горлом не просыпаются! — хмыкнул Эйнар. — То есть просыпаются уже в Валгалле.
— Это было давным-давно. — Елисава нахмурилась, недовольная намеком варяга. — И мой отец в том не виноват.
— Но ты забываешь… или ты не знаешь, что я при этом был?
— Вот как! — Изумленно раскрыв глаза, Елисава остановилась и повернулась к Альмунду. — Был?
— А ты не замечала, что я уже достаточно старый? — Варяг улыбнулся и провел широкой мозолистой ладонью по своим светлым, начавшим седеть волосам. — Да, тогда я был четырнадцатилетним мальчишкой. Я приехал из Рогаланда вместе с моим родичем, братом матери, Хрингом сыном Сварта. Он потом погиб на Днепре, следующей же зимой, когда твой отец, Ярислейв конунг, в первый раз разбил своего брата Святополка. В тот день в Хольмгарде мы с Хрингом ходили навестить одного торгового человека и не попали в эту бойню. Успели как раз к тому, когда начали выносить трупы. Я хорошо помню, как по этому проклятому Фариманнову двору текли целые ручьи крови, смешиваясь с растоптанным навозом и соломой. Твой отец сильно разгневался, но сделал вид, будто проглотил обиду, а потом уехал в свой борг, тот, где раньше, как сказывают, жил Хрёрек конунг. И туда пригласил хольмгардскую знать. Иные говорят, что гостей было больше тясячи, но это ерунда — столько там просто не поместилось бы. Знатных хольмгардских хёвдингов было человек сорок. А тысячи собрались, когда головы этих сорока были выставлены на стене! Правда, очень скоро твоему отцу пришлось пожалеть о том, что он сделал. Но я и те, кто тогда был при нем, хорошо запомнили, что с князем нужно быть… осторожными.
Елисава невольно взяла его за руку, но тут же, опомнившись, отпустила. Среди самых страшных семейных преданий, которые им поведали старые челядинцы, был рассказ о бойне на Фариманновом дворе, где разгневанные новгородцы перебили разом несколько сотен варягов, приведенных Ярославом для борьбы с отцом, князем Владимиром. Войне между отцом и сыном помешала смерть отца. Ярослав успел отомстить новгородцам за гибель своих наемников, нужных ему тогда, как воздух. Но тут же перед ним встала необходимость сражаться со сводными братьями за опустевший престол, и ему пришлось идти на поклон к своим врагам-новгородцам. Это было почти тридцать лет назад, еще до того как Ярослав женился на их матери. И Елисава не знала, что все это время рядом с ней находится живой, к счастью, свидетель давнего кровавого ужаса.
— Мы надеемся, что Ярислейв конунг мудр и не станет таким путем избавляться от людей, которые могут ему пригодиться! — заметил Торлейв.
— А живые мы ему полезнее, чем мертвые! — назидательно добавил Эйнар Жердина.
Жердиной его прозвали за высокий рост, длинные руки и ноги, а также худощавость, при которой он, однако, был очень силен. С продолговатым лицом, высоким и широким лбом, узкими, как у многих шведов, глубоко посаженными, водянисто-серыми глазами, Эйнар не был красавцем, но Елисава знала, что Благина, внучка тысяцкого Бранемира Ведиславича, тихо умирает от любви к нему. О чем сам Эйнар совершенно не догадывался. Хотя если бы догадался и приложил известные усилия, то близкое родство с боярином-тысяцким сослужило бы ему неплохую службу.