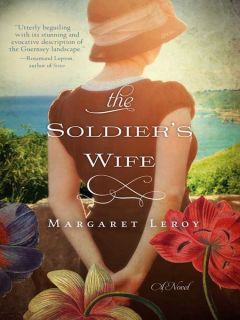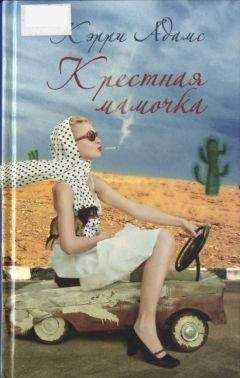Пытаюсь их представить. Величественные леса, аромат можжевельника и сосны. Я невежественна, словно ребенок, и так мало знаю об окружающем мире.
— А вот Берлин давит, — говорит он. — Все эти большие здания, люди, живущие друг на друге. Мне не нравится находиться там долго. Люблю ехать куда глаза глядят. Чтобы ни о чем не думать…
Вспоминаю стихотворение, что выбрала для него:
Хочу бродить все дни,
Где всё цветёт.
Может, это был не такой уж и неправильный выбор, как я думала.
— Мне нравится рисовать в Баварии, — говорит он мне. — Поставить мольберт на склоне горы. Целый день тишины наедине с моим угольным карандашом и красками… Это те моменты, когда не нужно бороться, не нужно куда-то стремиться. Ты именно там, где должен, и все течет, как вода, выходя из-под твоей руки.
Мне кажется, что у каждого есть мечта, поддерживающая его. Мысль: «Вот закончится война…» Для Гюнтера мечта там, на фоне тех лесов и тишины. Именно там он оставил частичку себя. На склоне горы в Баварии, там, где его мольберт, кисти и маленькие тюбики с красками. Аромат можжевельника и тишина.
Говорю ему об этом.
— Вот, где бы ты был, если бы мог выбирать.
Некоторое время он молчит.
— Нет, Вивьен, — наконец произносит он. Потом поворачивается ко мне лицом. В нем чувствуется напряженность. — Видишь ли… может быть, ты действительно, как и говорила, слишком плохо меня знаешь. Из всех мест, что я мог бы выбирать, я хотел бы быть здесь, в этой постели.
На коврике у двери лежит конверт. На нем ни имени, ни адреса. Гадаю, кто же оставил его здесь и почему этот кто-то не остался поговорить?
Открываю конверт. Внутри лист бумаги, сложенный пополам. Разворачиваю. Комната вокруг меня начинает вращаться.
Послание составлено из букв, вырезанных из «Гернси-пресс» и наклеенных на бумажный лист. Буквы, словно пьяные, с кривыми углами, как будто их наклеивали в спешке, как попало. Но послание совершенно четкое: «Вив де ла Маре — подстилка для джерри!!!»
Быстро кладу письмо на столик в коридоре, как будто прикосновение к нему может ранить, как будто может опалить меня. Но я понимаю, что не могу оставить конверт здесь. Уношу его в гостиную, сминаю и бросаю в огонь. Бумага разворачивается, занимается пламенем, по ней пробегает красная линия. Я смотрю, как конверт вспыхивает, чернеет и рассыпается в пепел. Даже подумать не могу — и не хочу — о том, кто мне его отправил.
В комнату позади меня заходит Эвелин, под ней скрипит пол. Она осторожно садится в свое любимое кресло и берет из корзинки вязание.
— Что-то горит, — говорит она. — Что это здесь горит? Я чувствую. Что-то горит в камине.
— Ничего, Эвелин, — отвечаю я. — Не беспокойся.
— Кто это сжигает письмо? — спрашивает Эвелин.
Она может увидеть сожженную бумагу в камине. Я разбиваю пепельные фрагменты. Даже сейчас, когда письмо полностью сожжено, оно все еще стоит у меня перед глазами. Перекошенные газетные буквы, уродливые слова.
— Это не письмо, — отвечаю я. — Ничего такого. Просто старый рисунок Милли.
Я задаюсь вопросом, откуда Эвелин знает, что это было письмо. Она видела его на коврике у двери? Она видела из своего окна, которое выходит на переулок, кто принес его? Но я не могу спросить об этом, не в силах узнать, кто оставил его там, потому что я уже сказала ей, что это не письмо.
Эвелин принимается за вязание. Ее пальцы двигаются резво, спицы звучат яростно, как упрек.
Некоторое время она молчит. Я же задумываюсь над тем, что случится со мной? Многие ли знают и кому они уже рассказали? Представляю, как люди будут меня осуждать, если узнают про мою любовную связь. Я представлю холодный взгляд Эвелин, Гвен и моих детей, они отвернутся от меня. Становится трудно дышать. Боюсь, что Эвелин увидит на моем лице чувство вины и страх.
Она внезапно перестает вязать, держа спицы острием вниз. Ее руки словно ослабли, петли начинают соскальзывать. Подхожу к ней, опасаясь, что ее вязание распустится и расстроит ее.
— Где Юджин? — спрашивает она. — Куда он делся?
— Эвелин, Юджина здесь нет. И тебе это известно.
— О.
Я сжимаю ее руки вокруг спиц. Ее кожа холодная и тонкая, как бумага… почти не похожа на плоть. Эвелин снова начинает вязать.
— Где Юджин? — спустя какое-то время снова спрашивает она. — Хочу поцеловать его на ночь. Кто-то же должен.
Она одаривает меня весьма суровым взглядом.
— Эвелин, Юджин на войне. Он очень храбрый, — говорю я.
— Письмо было от него? Ты сожгла его письмо?
— Нет, конечно же, нет. С чего бы мне это делать?
— Он нам не пишет, — говорит она.
— Нет, он не может. Ты же знаешь. Я уверена, он хотел бы написать, но просто не может. Письма не дойдут. Пока здесь немцы. Идет война, Эвелин, помнишь?
— Война. Все говорят, идет война. Они постоянно говорят, что идет война, — отвечает Эвелин. — Но что-то я не вижу здесь боевых действий. На самом деле, скорее наоборот.
Запах бумаги совсем слабый, в воздухе от него почти не осталось и следа… но кажется, что он останется здесь еще надолго.
Однажды, лежа в кровати, я прикасаюсь к шраму на его лице. Кожа под моим пальцем мягкая, как у ребенка.
— И как это случилось? — спрашиваю его.
Некоторое время он молчит. Словно в его голове роится куча слов, но он не знает, с чего начать. У него серые, словно дым из осенних садов, глаза.
— Это отчим, — говорит он.
Я ошарашена. Такого я не ожидала. Думала, что шрам — это результат ранения.
— Твой отчим?
— Он меня ударил, и я упал на печь.
— Ты не рассказывал мне про своего отчима.
Наши знания неравны: он знает о моем детстве гораздо больше, чем я о его.
— Родной отец умер, когда мне было шесть, и мать снова вышла замуж. Отчим был очень сложным человеком. Он был пастором. Все им восхищались, но дома он был очень жестоким, — сказал Гюнтер.
Пытаюсь представить себе его отчима — холодного, сурового и праведного.
— Как ужасно.
Мой голос звучит жалко, тоненько, как будто мои слова невесомы.
— Ты учишься держать язык за зубами, — говорит он мне. — Учишься держаться в стороне… делать то, что тебе сказано…
— Да, конечно, — мягко говорю я, не желая вторгаться в его мысли, желая, чтобы он продолжал говорить.
— Я много думал над этим, — продолжает он. — Когда ты маленький, ты рассуждаешь так: «Мой отчим прав, ведь так? Может быть, я плохой ребенок». Если он так говорит, значит, наверное, это правда. Особенно, когда этот человек столь могуществен, и ты от него зависишь. Ты должен верить, что он прав.