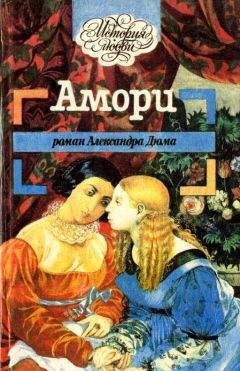И самое ужасное, Амори, я не смогу видеть тебя, касаться твоей руки, благодарить тебя за нежность, засыпать и видеть тебя в моих снах. Вот что самое ужасное! Позволь мне смотреть на тебя, друг мой, чтобы я могла вспоминать тебя, когда окажусь одна в ночи моей могилы.
— Дитя мое, — сказал кюре, — взамен того, что вы оставляете здесь, у вас будет небо.
— Увы, у меня была его любовь, — прошептала Мадлен.
— Амори, — заговорила она громче, — кто полюбит тебя так, как я? Кто поймет тебя? Кто подчинит тебе свои поступки, чувства, мысли, как это делала я? Кто сумеет влить свое самолюбие в твою любовь так, как доверчивая и нежная Мадлен? Ах, если бы я знала ее, Амори, клянусь тебе, я оставила бы тебя ей, потому что я уже не ревную… Мой бедный возлюбленный, мне жаль тебя и мне жаль себя. Тебе мир покажется таким же пустынным, как мне моя могила.
Амори рыдал, Антуанетта чувствовала, как крупные слезы катятся по ее щекам. Священник молился, чтобы не плакать.
— Ты слишком много говоришь, — мягко сказал господин д'Авриньи, единственно из любви к дочери сохранивший власть над собой.
При этих словах умирающая девушка повернулась к отцу движением, полным грации и живости.
— Что сказать тебе, отец? — заговорила она. — Ты уже два месяца совершаешь ради меня удивительные подвиги; ты готовишь меня к принятию Божьей милости. Твоя любовь так велика и великодушна, что ты уже не ревнуешь, а что может быть выше этого? В конце концов, к кому теперь ты можешь ревновать? Только к Богу. Твоя любовь благородна и бескорыстна, я восхищаюсь ей… — И добавила она после раздумья: — Я завидую ей.
— Дитя мое, — сказал священник, — здесь ваша подруга, ваша сестра Антуанетта, которую вы звали.
Антуанетта вскрикнула и, заливаясь слезами, приблизилась к Мадлен — первым желанием той было оттолкнуть ее. Затем, сделав над собой усилие, Мадлен протянула руки кузине, бросившейся к ее постели.
Девушки на несколько мгновений замерли в объятиях друг друга, затем Антуанетта отошла и заняла место ушедшего кюре.
Несмотря на беспокойство, терзавшее ее уже два месяца, несмотря на душевную боль, овладевшую ею в этот момент, Антуанетта была так красива и так свежа, так полна жизнью, она настолько принадлежала долгому и светлому будущему и имела право на любовь любого свободного, молодого и пылкого сердца, что без труда можно было прочесть ревность во взгляде Мадлен, какой она бросила сначала на эту пышущую здоровьем красавицу, а затем на своего отчаявшегося возлюбленного, которого она оставляла с ней.
Господин д'Авриньи склонился к ней.
— Ты сама просила ее приехать, — сказал он.
— Да, отец мой, — прошептала Мадлен, — и я счастлива ее видеть.
И с выражением ангельской покорности умирающая улыбнулась Антуанетте.
Что касается Амори, он увидел во взгляде Мадлен то чувство естественной зависти, которое испытывает слабое умирающее существо к человеку, сильному и полному жизни.
Сам же он, переводя взгляд с бледной и хрупкой Мадлен на живую и хорошенькую Антуанетту, испытал чувство, похожее на чувство Мадлен. Он почувствовал ненависть и гнев против этой дерзкой красоты, составляющей такой резкий контраст с печальной смертью. Ему показалось, что если бы он не решил умереть вместе с Мадлен, то он навсегда возненавидел бы Антуанетту с такой же силой, с какой он любил Мадлен.
Он хотел успокоить бедняжку, произнеся клятву верности ей на ухо, но в этот момент послышался звук колокольчика, и он вздрогнул.
Это был кюре Виль-Давре с ризничим из церкви Сен-Филипп-дю-Руль и двумя мальчиками из хора. Они пришли принять последнее причастие.
При звуке этого колокольчика все замолчали и опустились на колени. Только Мадлен приподнялась, как бы идя навстречу Богу, который приближался к ней.
Сначала вошел ризничий с распятием и мальчики со свечами, затем кюре со священным сосудом.
— Отец мой, — сказала Мадлен, — даже на пороге вечности наша душа может быть осаждаема неверными мыслями. Боюсь, что после моей утренней исповеди я уже согрешила. Перед причастием подойдите ко мне еще раз, чтобы я могла поделиться моими сомнениями.
Господин д'Авриньи и Амори тотчас отошли, и кюре подошел к Мадлен.
Тогда невинная девушка, глядя на Амори и Антуанетту, произнесла несколько слов, на которые кюре ответил только жестом благословения.
Затем началась церемония.
Надо самому стоять на коленях в такой момент у постели обожаемого существа, чтобы понять, насколько каждое слово, произнесенное кюре и повторяемое его спутниками, проникает до самых глубин души. При каждом ударе сердца Амори надеялся, что оно разорвется. Заломив руки, откинув голову назад, с лицом, залитым слезами, он походил на статую отчаяния.
Господин д'Авриньи, неподвижный, безмолвный, с сухими глазами, терзал платок зубами, пытаясь вспомнить давно забытые молитвы своего детства.
Антуанетта, единственная — слабая, как все женщины, — не могла сдержать рыданий.
Церемония продолжалась.
Наконец кюре приблизился к Мадлен. Она приподнялась, сложив руки на груди, подняв глаза к небу, и почувствовала у своих сухих губ просфору[69], которую впервые она получила только шесть лет назад.
Затем, ослабленная этим усилием, она упала на подушки и прошептала:
— Господи, сделай так, чтобы он не узнал, что, отсылая Антуанетту, я пожелала, чтобы он умер вместе со мной.
Кюре вышел, сопровождаемый своими людьми.
После нескольких минут тягостного молчания Мадлен опустила сомкнутые руки и бессильно уронила их на постель. Амори и господин д'Авриньи тотчас овладели ее руками.
Для Антуанетты не оставалось ничего. Она продолжала молиться.
Началось мрачное и молчаливое ночное бдение. Однако Мадлен хотела поговорить последний раз с двумя людьми, дорогими ее сердцу, она хотела попрощаться с ними, но она слабела так быстро, и несколько слов, произнесенных ею, стоили ей таких усилий, что господин д'Авриньи, склонив к ней поседевшую голову, стал умолять ее не разговаривать. Он хорошо видел, что все кончено, и единственное, что он теперь желал в этом мире — отодвинуть, насколько возможно, час вечной разлуки.
Сначала он просил у Бога жизнь Мадлен, затем годы, затем месяцы, наконец — дни; теперь он просил Господа даровать ему лишь несколько часов.
— Мне холодно, — прошептала Мадлен.
Антуанетта легла на ноги своей кузины и через покрывало старалась согреть их своим дыханием.
Мадлен что-то шептала, но говорить уже не могла.
Невозможно описать отчаяние и горе, сжимающие эти три сердца. Только те, кто дежурил у постели дочери или матери в подобную ужасную и печальную ночь, могут нас понять.