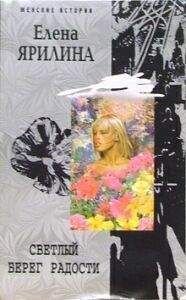— Вы грустны, Генрих, я это вижу. Вы сердитесь на меня за то, что все эти дни я писала вам кое-как… Но если бы вы знали, как я страдала и как страдаю еще и теперь, то простили бы меня… Вид ваших страданий не может усилить моих… Нужно ли вам повторять, что я никогда не могла и не могу переносить вашего несчастья?..
В этой фразе, этом жесте и в сопровождавшем их взгляде — она была глубоко искренна и растрогана!.. В эти полчаса их мучительного свидания де Пуаян не произнес еще ни одного упрека, но несмотря на это, она чувствовала, как страдал он, и это чувство, бывшее первой основой се любви, жило в ней гораздо глубже, чем она думала. Все струны романической жалости, когда-то затронутые в ней грустными признаниями графа, вновь задрожали в ее сердце. Это было пробуждением неожиданных, необдуманных, непреодолимых чувств. Если бы Генрих де Пуаян был в силах ясно представить себе последствия, к которым могло привести это свидание, и то огромное влияние, которое оно должно было оказать на все будущее его связи, он не употребил бы иного метода, кроме откровенного выражения своего страдания. Он же, наоборот, прикрываясь в течение стольких месяцев полуравнодушием, считал себя очень ловким, прибегая к такому приему. Теперь, перестав рассуждать, он становился опять для Жюльетты тем высшим и несчастным созданием, которого она жалела с достаточной страстью, чтобы влюбиться в него, по той таинственной связи, которая соединяет милосердие с нежностью и утешающую симпатию с волнением чувственности. Умерла страсть и умерла любовь. Ее мечты о счастье теперь стремились к другому, но связавший ее с де Пуаяном магнетизм жалости все еще продолжал существовать. Почувствовав его, она не пробовала даже от него защищаться. В эту минуту она действительно, как сейчас чистосердечно и без расчета сказала, не могла переносить страданий этого человека, который все-таки не мог и не должен был уже составлять ее счастья. Что же касалось до него, то в своих грустных размышлениях именно этой жалости он боялся больше всего. Лицо его исказилось еще сильнее. Он оттолкнул руку г-жи де Тильер и ответил:
— Ах! Жюльетта, будьте ко мне справедливы… Я никогда не измерял ваших писем страницами. Я любил их постольку, поскольку считал их потребностью вашего сердца, а не долга…
— Неблагодарный, — прервала его молодая женщина нежно-кокетливым тоном, — неужели вы допускаете мысль, что я смогу не писать вам!
— Ну, да, — продолжал де Пуаян, видимо, делая над собой усилие, — я предпочитаю говорить с вами откровенно. Да, ваши письма меня огорчили. Но не потому, что они были коротки или написаны наспех, а потому, что я чувствовал в них то, что я теперь знаю: вы не говорили со мной откровенно… Вы посылали мне их как дневник вашей жизни, но не говорили о том, что у вас завязывалась новая дружба, о которой я узнал за эти несколько часов моего пребывания в Париже. Этим так занимаются вокруг вас!.. Вот, что меня так глубоко оскорбило, зачем мне от вас это скрывать?..
Пока граф с неумолимой ясностью формулировал свое обвинение, навстречу которому г-жа де Тильер хотела пойти, но… позднее, — глаза их встретились. Она нахмурилась, в свою очередь, и целой поток крови зарумянил ее лицо. В этих нескольких словах де Пуаян предстал перед ней уже не как страдалец, а как судья, и в этом нежном, но гордом сердце к симпатии сейчас же примешивалась гордость.
— Я тоже, Генрих, — ответила она ему с некоторой надменностью, никогда не предполагала скрываться от вас… Но есть вещи, которые я предпочитала сказать вам лично, чем о них писать… Я слишком хорошо знаю, как легко письма вызывают недоразумения… Спрашивайте меня и тогда судите…
— Друг мой, — сказал граф, вздыхая с грустью, не имевшей уже ни тени упрека, — как вы меня мало понимаете! Мне вас спрашивать! мне вас судить!.. Что вы мне говорите, Жюльетта!.. Умоляю вас, не считайте меня ревнивым. Я не таков. Я не имею на это права. Я слишком уважаю вас для того, чтобы вас в чем-либо подозревать. Позволил ли я себе хоть раз, с тех пор как вас люблю, следить за вашими отношениями? Если вы принимаете тех или других людей, я мог бы только бояться, чтобы вы сами не пожалели об этом, но подозревать вас из-за этого — никогда! А вот, что вы, садясь за стол, чтобы писать мне, обдумывали каждую фразу вашего письма, вместо того чтобы писать его свободно, что вы считали меня за кого-то, кого надо беречь, что, наконец, боялись меня — и что я это чувствую, — вот что терзает мое сердце так же, как те фразы, которые вы только что произнесли о возможных между нами недоразумениях… Видите ли, я страдаю не от самой вещи, а от того, что вижу за ней. Я вижу, что ваши чувства изменились. Я вижу — ах! дайте мне сказать, — настаивал он, заметив жест г-жи де Тильер, — эта мысль уже так давно меня преследует, — я вижу, что между нами кончена интимность, кончена жизнь душа в душу, которая стала для меня такой дорогой привычкой. Я вижу, что люблю вас по-прежнему, а что вы — вы меня больше не любите. Маленький факт этой новой дружбы и вашего молчания служит тому доказательством вместе с двадцатью или тридцатью другими фактами… Если я воспользовался этим случаем, чтобы говорить с вами так, как говорю, то поймите, не потому, что я придаю ему больше значения, чем стольким другим фактам. Лишь ваше сердце имеет для меня значение… Жюльетта, если действительно я перестал быть для вас тем, чем был, то умоляю вас, имейте мужество мне это сказать. У меня хватает его просить вас об этом… Любите ли еще вы меня? В эту минуту я могу все выслушать… Вы говорите, что не можете переносить моего несчастья… В меня вселилось это ужасное сомнение, от которого я так страдаю… Прекратите его… Даже потерять вас было бы для меня менее мучительно, чем не знать, чего вы хотите и что чувствуете…
Она слушала, как он говорил все более и более разбитым и глухим голосом, выдававшим сильнее слов его внутреннее горе. Она видела, как с бесконечно измученным выражением склонялось к ней это лицо, такое несчастное и слабое в обычной жизни и перерожденное в эту минуту обаянием большого страдания. Она понимала то, в чем сомневалась уже несколько месяцев, — находя, быть может, удовольствие в этом сомнении, — что де Пуаян говорил правду; любовь его к ней исходила из самых глубоких, самых кровавых сердечных корней, и она физически непреодолимо почувствовала, что сказав ему, что больше его не любит, действительно разобьет это больное сердце. Вспышка гордости, вызванная обвинительным вопросом, не могла не рассеяться в ней перед смиренной покорностью этого отчаяния, дававшего ей в руки оружие и говорившего: Бей!.. Но нет. Она не могла ударить. Она не могла произнести фразу, которая сделала бы ее свободной, разбив окончательно этого любившего ее и любящего человека. Она отдалась ему для того, чтобы сделать его счастливым, и теперь вновь видела его перед собой таким несчастным, таким разбитым ею же! Бессознательная потребность обновить свое существование, приведшая ее к таким опасным отношениям с Казалем, ее тайное возмущение против цепей, налагаемых на нее связью, ее желание отстаивать свою независимость в день объяснения, ее усталость и жажда свободы, совершившаяся в ней за последние недели работа, — что все это значило по сравнению с агонией, внезапно захватившей и поразившей всю ее душу?