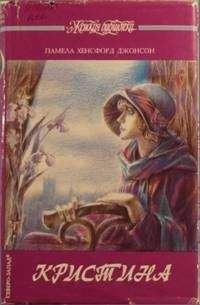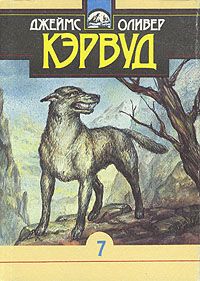Когда мы с Эмили сидели уже за столом, телефон вдруг начал издавать какие-то странные, напоминающие приглушенное урчание или хруст гравия звуки. Дрожащей рукой я подняла трубку.
— У вас неправильно лежит трубка па рычаге. Будьте любезны положить ее как следует.
Я послушно сделала это. Но теперь остатки моего искусственного спокойствия окончательно улетучились. Я вернулась к действительности и снова была во власти панического страха, терзаний и тоски. Я должна написать Нэду! Это будет сдержанное и спокойное письмо, как то первое, что я ему уже отправила. Но между строк он должен прочесть, как мне тяжело. Задача лишь в том, как много следует сказать ему между строк. Я писала и переписывала это письмо. Один вариант я уже готова была опустить в ящик, но что-то остановило меня. Потом я была рада, что не сделала этого, ибо на следующий день, как только я пришла в контору, мне позвонил Нэд.
Голос его, доносившийся издалека, казался спокойным и холодным.
— Хэлло, это ты? Если ты перестала дурить, мы могли бы вечерком проехаться в Ричмонд. Но только при условии, что ты уже одумалась.
Я была слишком молода и глупа, чтобы понять, что одержала победу и могу теперь делать с Нэдом все, что захочу. Я даже не поняла, что его звонок означал полную капитуляцию. Я просто потеряла голову от радости и могла лишь лепетать в трубку:
— Милый, милый, родной.
В тот вечер, когда мы встретились, я была воплощением трогательного раскаяния и заискивающей покорности, которой даже сама устыдилась. Но не следует думать, что сильные чувства не могут ужиться со стыдом и не мирятся с ним, как со случайным попутчиком.
Вначале Нэд был сдержан, небрежно поцеловал меня и попросил поторопиться, так как мы уже опаздывали. Но когда мы выехали на тихое, усыпанное листьями шоссе, он остановил машину и целовал меня так, что я замирала от восторга, ибо почувствовала, что наконец он увидел во мне женщину, такую же женщину, как Ванда, а не просто ребенка. Это пугало, тревожило, но это было чудесно. И это заставило меня с большим усердием, чем я того хотела, бичевать себя за нашу размолвку: он слушал, пока я не выговорилась до конца, с самодовольной улыбкой владыки, выслушивающего донесения о победах.
И все же он сделал мне одну маленькую уступку. Заводя машину, он сказал:
— Знаешь, дружище, в эту неделю мы получили неплохой доход от сделок по продаже. Дела идут в гору.
— Я знала, что так будет! — воскликнула я, изо всех сил стараясь, чтобы он прочел в моем взоре безграничную веру и беспредельную любовь. На какую-то робкую долю секунды у меня мелькнула мысль, не напоминает ли мой взгляд классическую собачью преданность. Но в этот вечер я знала, рискованно было делать подобные сравнения.
Когда мы сидели в баре над рекой, Нэд вдруг стал загадочным и молчаливым; он односложно отвечал на мои замечания и смотрел на меня с тем сосредоточенным интересом, с каким опытный покупатель в последний раз оглядывает облюбованную им покупку. Два чувства — уверенность в моей власти над Нэдом и робость — одновременно овладели мною; потом они причудливо слились в одно совсем новое чувство. В полумраке бара, в темных с позолотой зеркалах, множилась вереница огней — от лимонно-желтых язычков стенных бра до крохотных алых вспышек сигарет. Я увидела и свое лицо, странно порозовевшее от красного плюша кресел или от пристального взгляда Нэда.
— У меня есть кое-что для тебя, — вдруг произнес он смущенно и неловко, что всегда беспокоило и трогало меня. — Ты давно этого хотела. Надеюсь, тебе понравится.
Сначала на столе ничего не было, кроме пепельницы и стаканов, а затем на нем вдруг появилась маленькая красная коробочка. Она вобрала в себя свет всех ламп в зале, все время и все надежды. Я боялась прикоснуться к ней.
Нэд нажал пальцем крышку, она отскочила. В коробочке лежало колечко, и, прежде чем я успела разглядеть его, оно уже очутилось на моем пальце — колечко со странными заклепками по бокам, испугавшее меня и, что еще хуже, разочаровавшее.
Голландский мальчуган, заткнувший пальцем дыру в плотине, остановил морскую стихию, но сам стал пленником ее. Я была поймана, я погибла, я испугалась. Не ужаснулась, не впала в панику, а именно испугалась, как пугаются дети. Страшно, когда в узком коридоре юности тебя встречает твое будущее и, широко раскинув руки, неумолимое, преграждает путь. Ты поймана. Неужели ты думаешь, что можешь идти дальше? Сколько еще есть коридоров, просторных комнат, широких врат, ведущих в сады с яркими экзотическими цветами и щебетом птиц, но все это уже не для тебя. Ты выходишь из игры в самом начале.
— Это кольцо моей сестры Нелл. Я отдавал его переделать. Все равно ничего лучшего я в магазинах не нашел бы. — В голосе Нэда послышалось беспокойство. — Что с тобой, детка? Ты плачешь?
Сейчас, когда мы взрослые, нам нельзя проникаться жалостью к себе. Это непозволительная роскошь, и понять это — значит сделать первый шаг на пути к мужеству. Однако нам простительно сколько угодно жалеть себя в юности, ибо это все равно, что жалеть кого-то другого, одно из наших «я», которых в нас так много и которые последовательно сменяют друг друга, так что лишь в итоге жизни мы до конца познаем себя. Тогда, если случится сделать неожиданное открытие, уже поздно что-либо изменить. А в молодости сколько в нас этих «я», и одно способно удивляться другому, а порой и жалеть его.
Влюбленная молодость может страдать снобизмом, поскольку материальные блага кажутся ей своего рода безопасностью, которую нет еще умения оценить и с духовной стороны. В молодости мы со страхом отдаем свою судьбу в чужие руки, и в это путешествие в чужую далекую страну нам хочется взять с собой знакомые предметы — шелковистый ковер, позолоченную вазу, монету со знакомым профилем. Мы уверены, что знаем, что такое деньги; мы думаем, что знаем, что такое «положение». Мы жаждем их не потому, что алчны или расчетливы, а потому, что ищем утешения. Лишь став взрослыми, мы ничего не требуем от любви, ибо из чужой страны она нам стала родным домом.
Именно потому, что я боялась выходить замуж за Нэда, потому что мне одинаково страшно было и потерять его, и сохранить, и цеплялась за вещи, которые были для меня символом зрелости (и, как я думала, спокойствия; я еще не знала, что нет его и в зрелости, как нет в жизни вообще, пока звучит в человеке беспокойный голос плоти).
Мне казалось, что о достоинстве девушки судят по кольцу, которое она носит в знак помолвки; достоинство замужней женщины — это ее дом и та материальная собственность, которую она может назвать своей. Я думала, что все это поможет мне выдержать даже самые горькие разочарования, если они ждут меня. Что бы ни случилось, у меня будет положение в обществе. Только в очень юном возрасте мы склонны столь переоценивать значение этих нынешних атрибутов.