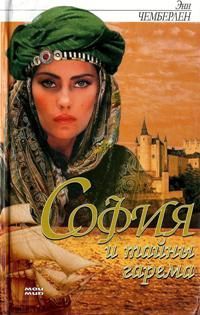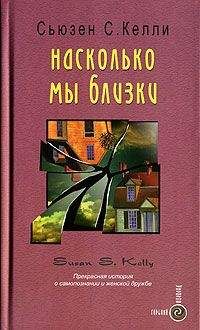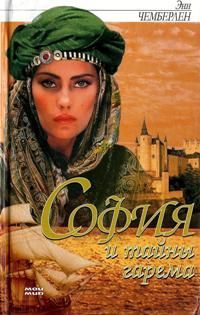– В прошлом году бастионы Мальты заставили их убраться восвояси, – продолжал я развивать заранее обдуманный план. – Вот так-то. И я сейчас не слишком удивился бы, узнав, что Пиали-паша собирается повторить свою прошлогоднюю попытку, собрав дополнительные силы и воспользовавшись тем, что погода нынче лучше, чем тогда.
– Ну вот, ты же сам видишь! Стало быть, галеоны Пиали-паши и его планы никак не смогут нам помешать, – обрадовалась Эсмилькан. – И потом, пока тебя не было, я все хорошенько обдумала.
– И что, госпожа?
– Мой брат и Сафия – оба в Магнезии, так же, как и мой господин и супруг. Естественно, я могу рассчитывать на их гостеприимство, так что мне не будет нужды терпеть все неудобства жизни в военном лагере. А после того как мой муж отправится выполнять свой долг, я могу побыть с Сафией до того времени, как она родит – да будет на то воля Аллаха! – а заодно помогу ей оправиться от родов.
Да, в унынии подумал я, пока меня не было, моя госпожа явно не теряла времени зря: за какие-то несколько часов она нашла еще несколько причин, по которым ей следует ехать, и притом немедленно. А я не только не нашел новых доводов, чтобы отговорить ее от этой затеи, но и сам еще невольно дал ей дополнительные козыри, упомянув о грозном флоте Пиали-паши. В отличие от меня, присутствие военных кораблей нисколько не пугало Эсмилькан. Что же до меня… Тот невольный страх, что я сейчас испытывал в душе, то ощущение, когда сердце уходит в пятки, а каждый нерв, казалось, дрожит от возбуждения, вполне вероятно, были всего лишь отголосками моей прежней жизни, от которых я до сих пор был бессилен избавиться. Один вид корабля с турецким полумесяцем превращал меня в дрожащую тварь – и не важно, где он в этот момент резал волны.
Как бы там ни было, весь этот составленный Эсмилькан грандиозный план отвлек ее от грустных мыслей, наполнил новой надеждой и новыми силами, вытеснив из сердца грусть и чувство потери. Конечно, не в моих силах было подарить ей ребенка, зато я мог помочь ей в этом. Я ругал себя последними словами. Какой же я дурак, что надеялся отговорить ее от поездки!
– Абдулла, ты напрасно теряешь время. Ступай в гавань и подыщи для нас подходящее судно. Все решено: я еду в Магнезию.
Итак, я повернулся и снова отправился к докам.
Меня и без того тянуло туда, точно магнитом. Наверное, виной всему была ностальгия. Четыре долгих года я изо всех сил старался избегать даже краем глаза смотреть на море, избегал его знакомого с детства запаха – так пьяница, решив бросить пить, до смерти боится даже бросить взгляд в сторону вожделенной бутылки. Но теперь, один раз вдохнув полной грудью свежий соленый бриз, я почувствовал, что погиб.
Сколько раз я вот так же шагал к гавани вместе с моим дядюшкой Джакопо?
Но как все-таки переправить мою госпожу в Магнезию? Задача эта, пока я смотрел на море, казалась мне все более невыполнимой. Повинуясь приказу грозного Пиали-паши, каждое судно, которое могло держаться на воде, поспешило присоединиться к его флоту. Даже юркие «скифы», на которых обычно подвозили в столицу припасы, и тяжелые, с плоским днищем паромы, не говоря уже о других, которые казались мне подходящими для этой цели, – все они сейчас щетинились пушками, готовые в любую минуту ринуться в бой по приказу своего адмирала.
Как и все женщины ее положения, моя госпожа в свое время обзавелась аккуратным маленьким каиком
[12], чтобы в хорошую погоду кататься на нем по Босфору. Пользовалась она им нечасто – еще ребенком, оказавшись на воде, Эсмилькан страдала приступами морской болезни. Так что теперь, вместо того чтобы искать корабль, который мог бы доставить нас в Магнезию, я внезапно оказался завален предложениями ссудить на время наш каик для перевозки продовольствия и военных припасов. Причем деньги всякий раз сулили такие, что у меня просто голова шла кругом. Счастье еще, что со мной не было Эсмилькан, иначе она с фанатичным упорством начала бы убеждать меня согласиться. Все-таки в обычае турков держать своих женщин в гаремах есть и своя положительная сторона, усмехнулся я.
Поэтому я решительно отверг и все подобные предложения. Не требовалось обладать таким уж богатым воображением, чтобы понять, во что превратится наш каик после одного-единственного плавания, если его трюм будет забит ружьями или мешками с мукой. Я даже зажмурился от ужаса, мысленно представив его инкрустированные перламутром деревянные панели и бархатные подушки, перепачканные ружейным маслом, и отказался наотрез. Однако это не помогло мне решить мучивший меня вопрос: где все-таки взять судно, которое могло бы отвезти нас в Магнезию, поскольку крохотный каик, несмотря на всю свою красоту, решительно не подходил для этой цели.
Вот уже второй раз за сегодняшний день я спустился к воде, но на этот раз меня манило к себе не только море, но и жажда, а неподалеку мне удалось заприметить запотевшие стаканы с мятным йогуртом. Завидев меня, торговец едва ли не вырвал опустевший стакан из рук последнего клиента, чтобы поскорее налить мне йогурта, когда тот, обернувшись, вдруг неожиданно обратился ко мне.
– Похоже, в ближайшие день-два вам вряд ли удастся промочить горло? – шутливо подмигнул он.
– Что поделаешь, Рамадан
[13], – кивнул я, не зная, что еще сказать по этому поводу. Его шутовское подмигивание как-то плохо вязалось с наступавшим вскоре праздником Рамадана, к которому турки привыкли относиться с благоговением. Впрочем, возможно, у бедняги просто тик, успокоил я себя.
– Да, – задумчиво промычал человек в ответ, словно желая сказать: «Сами его придумали, вот теперь и мучайтесь», и так же задумчиво повторил: – Да, Рамадан.
Не столько разглядывая копившиеся у пристани суда, сколько загипнотизированные неумолчным рокотом моря, мы вдруг почувствовали, что нас неудержимо тянет поговорить. Но стоило нам только вступить в разговор, как таинственное очарование развеялось без следа.
Язык, на котором мы говорили, представлял собой что-то вроде патуа, которым пользуются торговцы. Мой неожиданный собеседник, казалось, нисколько не удивился, что я, евнух, кастрат, свободно владею этим жаргоном, в котором, будто в крови какого-нибудь бастарда, смешались все языки, какие только в ходу в средиземноморских портах, – турецкий, арабский, греческий и, конечно, итальянский. Возможно, изрядно потолкавшись на верфях Оттоманской империи, он со временем решил, что этот говор стал тут чем-то вроде государственного языка.
Вскоре его манера прибегать к итальянскому каждый раз, когда он не мог отыскать подходящее слово, подсказало мне, что мой собеседник, скорее всего, родом откуда-то из тех мест, где этим патуа владеют как родным. А присущая только жителям Лигурии привычка к легкому пришепетыванию и проглатыванию согласных помогла мне безошибочно угадать его родину. Незнакомец почти наверняка был родом из Генуи. Даже теперь я не мог без сердечной муки слушать, как он растягивает гласные. Но не тоска по навеки утраченной родине сейчас терзала меня. Именно так, с мяукающим акцентом, говорил человек, навеки лишивший меня мужского достоинства и прежней, бесконечно милой мне жизни, ренегат-генуэзец, с какой-то утонченной иронией принявший имя Салах-эд-Дин. Впрочем, мое чувство имело и более глубокие корни: семья, к которой я некогда принадлежал, с присущей всем венецианцам страстностью ненавидела жителей этого города, видя в Генуе извечного врага и соперника родной Венеции.