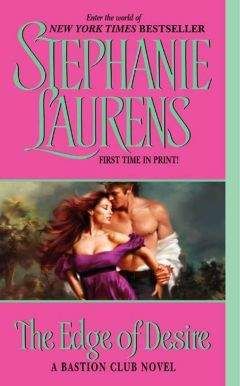– Не надо. – Она не открыла глаза; ее рот вытянулся в тонкую прямую линию. – Кристи, ради Бога.
– Вы не хотите говорить об этом? Хорошо, тогда мы…
– Я не хочу вашего христианского утешения. Если смерть Джеффри поразила меня произволом и жестокостью, не думайте, что я буду винить в этом Бога – потому что я не верю в Бога. И не смейте мне говорить, что он в лучшем мире!
Он согласно кивнул. Она не могла видеть кивок, так как не хотела открыть глаза. Поэтому он сказал:
– Очень хорошо, не надо христианского утешения. Поговорим о том, как вы себя чувствуете.
– А как, по-вашему, я себя чувствую?
– Почему вы мне не скажете?
– Лучше не стоит.
Он снова кивнул, уже не так согласно, взял кочергу и стукнул по обуглившимся поленьям, отчего в трубу взлетел сноп искр.
Энни поставила невыпитый чай на стол позади себя.
– Извините. Дело в том, что я ничего не чувствую, кроме оцепенения.
– Это естественно.
– Да, наверное.
– Вы еще не можете в это поверить. И я тоже. Трудно горевать, когда это еще не стало реальностью для вас. – Она не ответила. – Если хотите, я позабочусь обо всех приготовлениях для отпевания.
– Отпевание, – произнесла она тупо и уронила голову на руки. – Делайте что хотите, мне все равно.
Он помедлил мгновение перед тем, как сказать:
– Может быть, вы захотите подумать, что нужно прихожанам. Чего люди вправе ожидать. Они опять потеряли главного землевладельца прихода. Они должны чувствовать беспокойство, неуверенность, тревогу за будущее.
– Да-да, хорошо. Но Джеффри не был хорошим землевладельцем: с какой стати им его может не хватать?
– Это нарушение последовательности. Джеффри не был добросовестным руководителем, это правда. И Эдуард не был. Но, по крайней мере, их присутствие давало некоторое чувство стабильности, а в отсутствие всего остального иногда только это и скрепляет общину воедино.
– Вы скрепляете ее воедино.
Он вздохнул, и она быстро добавила:
– Делайте, что только захотите, Кристи, устройте Джеффри самые грандиозные похороны, какие они когда-либо видели, – говорю вам, мне все равно. Я не могу больше оставаться здесь.
Сначала он подумал – она имеет в виду эту комнату. Когда до него дошла правда, он почувствовал мурашки, бегущие по коже.
– Что вы имеете в виду? – спросил он осторожно. – Куда вы пойдете?
Она покачала головой, пожала плечами, снова покачала головой.
– Теперь это ваш дом.
– Конечно, нет. Я никогда здесь не приживусь.
– Это не правда. Вы…
– Где-то есть кузен, Себастьян Верлен. Он унаследует титул. И поместье тоже, я полагаю.
Она стремительно поднялась со стула и подошла ближе к огню. Он следил, как она постукивала кончиками пальцев по каминной доске, повторяя случайный ритм, глядя перед собой в пустоту. Ее профиль четко вырисовывался на фоне темного дерева. Пока он смотрел, ее щеки понемногу розовели, она стала дышать открытым ртом, чтобы он не догадался, что она плачет. Потом она отвернулась.
Кристи встал и после секундной нерешительности подошел к ней. Он положил руку ей на спину, между лопатками.
– Энни.
– Я не… Я не хочу…
– Я знаю. Без христианского утешения. – Он сдвинул руку к ее плечу и слегка его сжал. Она дрожала, постоянно сглатывая, чтобы удержать слезы.
– Все хорошо, – прошептал он самое бесполезное и недопустимое утешение, из всех известных ему. – Все хорошо, Энни. Все хорошо.
Дрожа, она повернулась и дала себя обнять, слушая, как он это повторяет.
28 ноября
Сегодня пришло письмо от Джеффри. Он писал его на борту госпитального судна в Черном море. Дата – 10 ноября, за четыре дня до шторма, который его убил. Он писал о своих бравых подвигах в битве при Инкермане, где он был ранен в бедро и в плечо. Его могут наградить за доблесть, пишет он.
29 ноября
Прошлой ночью видела во сне Равенну. Я снова была ребенком, и мама учила меня плавать. Проснулась в слезах.
30 ноября
Поминальная служба была проведена гораздо лучше, чем отпевание отца Джеффри. Благодаря моему участию, сказал Кристи. Очень в этом сомневаюсь.
2 декабря
Опять не сплю по ночам. Значит, прихожу в себя. Вчера я спала полдня и провела оставшуюся половину в каком-то оцепенении, глазея в окно, слишком сонная, чтобы одеться. Не понимаю своего настроения. Скорее, настроений: они меняются. А сейчас… сейчас я не чувствую желания писать в эту тетрадь.
4 декабря
Я вспоминала вечер, когда Джеффри и я впервые встретились. Весна; домашний прием в Суррее; хозяйка – миссис Уэйд или Уэр, какая-то покровительница голодающих художников, как мне кажется. На второй день я была готова повеситься с тоски. Я никого не знала, а папа, который в то время приударял за чьей-то женой, забыл о моем существовании. Я заметила Джеффри первой: вернее, мне так показалось. Но, как выяснилось, это было не так. Через несколько лет, он рассказал мне, что его приятель Симингтон показал ему меня раньше. Он уже знал, разумеется, о полученном папой наследстве; именно поэтому он заставил Симингтона выпросить для него приглашение. Я была сразу заинтригована: он не имел ни малейшего сходства с художником, на мой взгляд. Он казался человеком действия. Был модно одет, без нарочитого беспорядка в туалете, и выглядел здоровым и хорошо упитанным. Острый взгляд, внимательный, не сонный. Это привлекало меня – энергичный, физически крепкий мужчина, деятель, а не наблюдатель. Когда он поймал мой взгляд и улыбнулся, это не выглядело флиртом; это казалось солидарностью. Две родственные души, плывущие навстречу друг другу в море скуки и пустоты. О, глупая, глупая девочка!
Я не могу вспомнить его первые слова; что-то заранее обдуманное и хорошо исполненное, я уверена. Что я помню, так это нетерпимость (презрение, как мне пришлось узнать) к другим гостям на этом приеме. Он отзывался о них насмешливо, саркастически. Мне это доставляло удовольствие, о чем я вспоминаю со стыдом. Он считал само собой разумеющимся, что я была не из их числа – о, нет, я была, как и он, сторонним наблюдателем; наше умственное превосходство спасало нас от излишеств этих безвольных, унылых эстетов. При этом, о чем бы ни шла речь, он постоянно намекал, что как мужчина он даст сто очков вперед любому из них. В этом я не сомневалась. Мне было двадцать лет, и я для этого созрела.
Я хотела его, но не поэтому я пошла за него замуж. Он сказал, что любит меня. Я б простила его за все остальное, но эту ложь я простить не могу. Даже теперь.
5 декабря
Без сна, взвинченная. Кажется, теперь я могу выйти, выбраться из этого дома. Я слишком долго просидела взаперти, не видя никого, кроме Кристи, да и то только раз, недолго, потому что он настоял. Я хотела бы, чтобы он сейчас пришел. Я могу послать записку… нет. Лучше не надо. О, если бы он только пришел. Теперь, когда я об этом подумала, я не могу больше думать ни о чем другом.