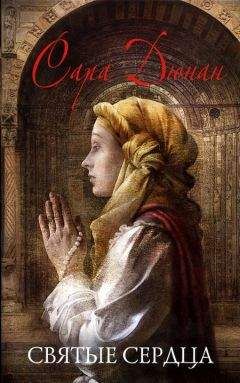Теперь Зуане уже не так невтерпеж вернуться к работе, ибо это и в самом деле монастырский секрет, о котором она никогда раньше не слышала.
— Конечно, тут же начался переполох. А как иначе? И в первую очередь среди послушниц. Они особенно поверили. Даже тогдашний исповедник и тот поддался, впрочем, он был человек простой. Одним словом, через парлаторио новость вышла наружу, и люди стали говорить, что скромная птичка герцога Эрколя снова запела и в Санта-Катерине опять живет святая.
— Когда это было?
— Когда? Весной и летом тысяча пятьсот сорокового года, по-моему.
— Тысяча пятьсот сорокового? Но ведь ты уже была здесь в то время. И наверное, все видела своими глазами.
— Монастырь был тогда моей школой, но еще не стал домом, а монахиням, которые нас учили, запрещалось говорить с нами об этом. Нет, то, о чем я веду речь сейчас, я узнала намного позже.
Тем не менее что-то она наверняка заметила. Столь драматические события не могли не нарушить монастырскую дисциплину, а умные дети всегда это чувствуют. С годами Зуана научилась отличать их в стайке девочек, идущих следом за монахиней хора на занятия: у таких малышек любопытство всегда одерживает верх над запретами, их круглые мордашки сияют, словно пузыри, озорство борется в них с добродетелью, и исход этой битвы еще не предрешен. О да, она наверняка что-то узнала.
— Сейчас эта дата ни о чем тебе не говорит, но в те времена подобные события были настоящей катастрофой. Французская жена герцога, Рената, вызвала при дворе настоящий скандал своими симпатиями к еретикам. Она кормила отступников за своим столом, ходили даже слухи, будто одно время она давала убежище архиеретику Жану Кальвину.[11] Большой церковный совет как раз встречался в Тренте, и поговаривали, что инквизиция уже едет в Феррару. В такие времена невежественная крестьянка вроде Магдалены, став проводником слова Божьего без надлежащего наставничества церкви, лишь привлекла бы к городу ненужное внимание.
— И что же произошло?
— После некоторых… обсуждений в монастыре старую аббатису, у которой, к несчастью, была при дворе сестра, входившая в окружение Ренаты, сместили, а на ее место назначили новую, мадонну Леонору. При содействии епископа в монастырь прислали другого, более взыскательного исповедника, и было принято решение, что для общего блага сестра Магдалена должна возобновить заточение в своей келье.
Возобновить заточение в келье. Точнее, замуровать себя в четырех стенах. Как это было? Протестовала ли она, выла, бросалась на дверь? Или только свернулась калачиком на тюфяке и обратила лицо к Богу? Даже если Он и впрямь встретил ее, от этой воображаемой картины у Зуаны все равно мурашки бегут по спине.
— Значит, это не она так решила. Ее заперли.
— Нет… — колеблется аббатиса. — Ее затворили в келье. И все — включая ее саму — согласились с этим, потому что так нужно было для блага общины. — Она делает паузу. — Примечательно, что с тех пор… в отсутствие зрителей у нее никогда не открывались стигматы и не случались экстазы.
— Вы хотите сказать, что она устраивала их нарочно?
— Нет, — нетерпеливо трясет головой аббатиса, точно сам выбор слов в этой беседе не устраивает ее с начала и до конца. — Хотя в молодости ее не раз обвиняли в мошенничестве, это верно. Нет, я просто рассказываю все, как было. Одному Господу известно, что у нее в голове.
Но, как бы благоразумно это ни звучало, Зуана не может забыть то, что видела. Старухе, чьи кости легкостью напоминают птичьи, а плоть больше похожа на слишком тонко раскатанное тесто, негде взять столько сил, чтобы словно клещами стиснуть руку молодой здоровой женщины, а уж тем более впадать в транс столь глубокий, чтобы не замечать, как мухи ходят по ее глазным яблокам.
— Историю, которую я тебе рассказала, мне полностью растолковали лишь четыре года назад, когда я была избрана аббатисой, и мне стал ясен мой долг по отношению к общине и пребывающей в ней сестре Магдалене.
«Долг по отношению к общине… — думает Зуана. — А также по отношению к твоей семье». Аббатиса недоговаривает одного, поскольку это и так всем известно: любая монахиня, если она не полоумная, знает, что те бурные годы в начале тысяча пятьсот сороковых были временем смены ориентиров внутри Санта-Катерины, а назначение мадонны Леоноры на пост аббатисы стало началом возврата к власти семьи мадонны Чиары. И несмотря на некоторое нарастание оппозиции, Чиара до сих пор пребывает на посту.
— Понимаю.
— Поэтому, если она и впрямь при смерти, тебе, как старшей по лазарету, надлежит найти иные пути позаботиться о ней в данных обстоятельствах.
— А что, если… — Голос Зуаны замирает.
— Если что?
Зуана колеблется.
— Что, если Господь и впрямь говорит ее устами?
— В таком случае пусть Он найдет себе других посредников, — тихо произносит аббатиса. — Хотя ты не из самых святых сестер в Санта-Катерине, Зуана, зато наверняка одна из самых проницательных. Я сейчас делюсь с тобой не сплетнями. И даже не старыми историями. Я рассказываю тебе об этом лишь потому, что мы снова входим в бурные воды.
— Но… но я думала, что худшее уже позади. Герцогиня Рената давно вернулась во Францию, у нас теперь новый герцог, новый Папа, а инквизиция нас покинула. Разве теперь город не в безопасности?
— Это лишь временная передышка. Наш новый Святой Отец по-прежнему не спускает глаз с Феррары. В отсутствие законного наследника наш город по смерти герцога снова вернется во владение Папы, хотя, если Господь смилостивится над нами, этого не случится. Однако есть и еще более близкая угроза. Ты знаешь, что среди декретов, принятых во время последнего собора в Тренте, был один, направленный на очищение монастырей от всего нечистого и скандального путем ограждения от него всех монахинь, невзирая на то, к какому ордену они принадлежат и какое положение в нем занимают.
— Да, но на нас он не распространяется. Как бенедиктинки, мы и без того принадлежим к закрытому ордену.
— Это верно. Однако есть предположение, что слово «закрытый» можно трактовать по-разному. И теперь становится ясно, что декрет был принят столь поспешно — можно даже сказать, намеренно поспешно, — что превратился в висящий над нами меч, который, если его столь же торопливо опустить, полностью изменит всю нашу жизнь.
Зуана молчит. Для большинства монахинь внутренние повороты церковной политики столь же запутанны и непонятны, как изгибы и извивы человеческого кишечника, и в стены монастыря то и дело проникают снаружи сплетни, одна скандальнее другой. Вот когда от брата, служащего в церкви, толку определенно больше, чем от визионерки, сидящей в келье.