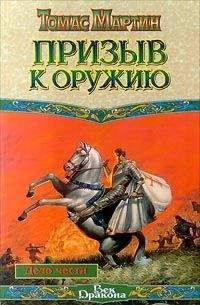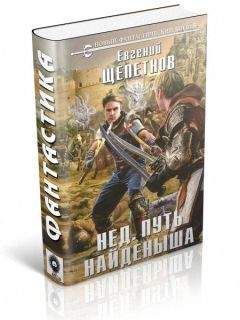не пил бы. Боится, что мамы Зуб начнет скалиться и резаться о его совесть. А так Он пил бы, не будь совести. Напился от плача и накупился от горя. А так Он пошел по улице. Показать миру? Или так, для выветривания? Вот сейчас, что происходило до этого. Сейчас туманца. А раньше? Вот Он писал, скарябал. А сейчас? Исписался?
Вот тучка в дождик вытерлась. Падает перхотью на головы людей и улегляется бережно. А волосы дубеют или даже рыхлеют, как землюшка наша. А потом у нашего человечка бактерии поселяются и чаю кипятят для ночевок. И мысли у нашей соломы такие бурные, злые, пошлые. У меня такое было хоть не человек я. Вот, например, идет Он и мокнет. Такой томный. Отчего ему идти по улице? От плача? Я же говорил уже, не идут после слезения людишки на мокрое. Либо пьют, либо иначе сохнут. А Он? Возможно просто устал и выгуливает себя. Понимаете?
Вот ветерок – скатерть по нашей невидимой прозрачности покатилась и вьется по бородке Господа. Так мокренько, но приятно ветерку. Заглядывает и к Луне шаловке, и к маме, и к папе. Каждому. А ему более всех. Но Он толкает ветер. Туда, туда, сюда и трижды туда. Странный Он. То ли грустный и плакал, то ли правда решил проветрить себя. Но как можно проветрить себя толканием ветра. Такой грубой мечой? Не может же Он плакать и идти потом под дождь. Может! Он все может. Даже того, чего рука ни одного художника не опишет. Того, чего ни один писатель не напишет. Того, чего не один политик не построит. Того, чего ни одна этика не этирует. Он все может.
Вот Он идет. Он начинал плакать. И вышел на улочку, дабы мама и папа не видели его синяков душевных. И бродит с мыслями о своей думе.
«Что делать? Зачем я это делаю» – мотается на уму. И мотается, и мотается. Понимает – нужно выпить и покурить, или пойти … к кому? Пить ему нельзя, курить тоже. А идти? Можно! Но к кому? У него ведь все такое. Временное. А идти нужно домой. В постоянное. Нигде Он больше не домотает. Только дома. А там мама и папа – думают Он с кем-то. Нельзя идти ему. Отчарует от спокойствия ихейные душки.
Вот раскатана тушица на нашей бетонной досточке. Вот красивая девчоночка ткет своему парню шапочку. Вот как она его любит, вот она забота. Шапочку от простывания на дожделивой погоде. Вот она ручкой так старается. Тютельку в тютельку, нитку в нитку. Опыт любви невероятен. Опыт заботы не безгениален. Опыт зависимости благочестен и так же смерточестен. А честность? Что она? Опыт честности как кожа розочек. Такая рисковая и колкая. Даже фатальная. Сложно сейчас.
Вот раскатился музыкальный рев. Мелодия силы. Мощи. Власти. Господский рев. Великий и так же максимально человечий. Максимально социальный. Общий. Музыка угодная небу. Мелодия угодная любви. Ее силе. Ее мощи и реву. Этой великой, но человеческой силе.
Катился этот рев. И докатился до ножек его. А Он отпинывает мячик. И тот в небо. Но не к тому, которое наверху. Так Он не отпинывает. Хотя верит, что отпиненное летит ввысь. И только лучше становится. И только благо. Что от него лучше. Как крапива. Не касайся – не коцнет. Летит любовь от него. Летит вперед. В другое небо. В другую мякоть дней и месяцей. К другим людям. И они им сытятся. Жуют и жуют. А зубы мыльные уже. И не очень хорошо. Челюсть скользит.
Вот и в чем проблема его? Отпинует любовь отчего? Отчего рахтится любовью? От страха? Или от скудности? Рахтиться от скудности нельзя. Сложно. И сердце другим берегом оборачивается. И вода ласкает уже иначе. Менее женственно. Менее ласково и бережно. Играет им. Не более. Или всегда играет? А берег думает, «хорошо мне – кому-то нужен». Сложно все так. Сложно не от начала. Середина и все. Там началось. Помню раньше было – подошел, сказал хочу рядом и с ней. А сейчас – я люблю тебя. Страшное дело. Даже не страшное. А более еркое. Рахтятся любовью. Он больше всех. А от чего? Писать он хочет романы и поэмы. А рахтится любви.
Вот и все. Рев прошел. Борода сбрилась. А крошки воды выкрошились. Кто – то заболел. Кто-то плакал. Кто-то спит и радуется. Кто-то радуется так, без спит. А он идет и ухо затанцевало. Услышало миролюбивую, спокойную, ленивую на скудность мелодию. И поворачивается он. Думает – нужно. Идет к колодцу звукодений. И видит. На робкой табуретке сидит бледная, хрупкая и по – своему русская девушка. И с такими чернеливыми волосами. Словно виноградный сок. И так поет нежно. Напевает:
Слабый слабый человечек
Помолись ты за мой дом
Звездолеший сдобный дом
Слабый слабый помолись
И мою любовь крони
Не роняй, не рахти
Слабый слабый удалец
Покорми меня собой
Ухи уже вымялись от танцев. Разбудили и языка, и нервы, и сердце. Дразнят они их. Мол, обратите на этот дар внимание. Обратите на нее себя. Он медленно подходит в обережении ее испуга. А она так замялась. Заметила его. Глядит и страшится. И начинает. Говорит – Ты Он?
– Он? Кто… он? – с пуговкой страха спрашивается.
– Ну, Он. Ты же меня видишь и слышишь. Пение многие видят, но не меня.
– Видят пение?
– Ну да, этот свет в кровати. Лунный для вас. Это мое пение. Мои мелодии. Все их видят. Но не слышат и не видят саму меня.
– Ты Луна?!!Каким боком. Ты бля что нахуй?!!!!Та ну! Ты смеешься! ХАХАХАХАХ
– Именно, я Луна. А ты не узнал?
Он хоть и быль в метельном угаре. Но подумав трезво – «ведь правда. Красивая, бледная и пышная, хрупкая, черноволоска. Но как? Как я ее вижу? Жив ли я умом и жизнью?»
– Ладно. Пусть ты Луна. Но тогда нахуя тебе к нам спускаться? И петь здесь? А?
– Чтобы таких как ты спасать. – насмешливо выикивает она. А насмешливо ли? – А так, скучно там. Все спят, мою музыку не видят. А подобные тебе гуляют ночью. Ищут смысл. Боятся чего- то и идут. И пою я вам. Ты же понимаешь зачем? Хочу, чтобы такие как вы слушали мое пение. И внимали мне. Ты ведь тоже хочешь внимания. У тебя мания такая. Быть слышимым. И важным. Вот ты меня встретил на потрепанной и седой улочке, на этой