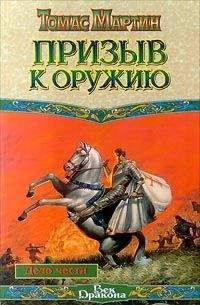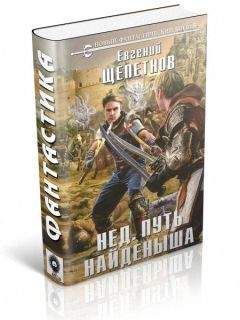описать это. Не это, а другое. Что было до это. То есть процесс их борьбы. И что после него. Но не это. Этого он еще не испытал.
Сел за несколько нервов и волнений на стульчик. И смотрит на монитор. Смотрит. Открывает файл и начинает. Вроде не идет сначала. Довольно графомански хореи и ямбы родились у него. Но рифмы какие! А абляизмы. Или не абляизмы. Я не знаю. Хотя, наверное, он бы их назвал абляизмами. Это бля – гениальное и научное пайком для военных. Каша, галеты и еще что-то. Спирт то ли, то ли хлебец. Точнее не скажешь о его работе. Решил он показать разрушение человека, поэтического человека на части. На части – ум и чувство. Ум умирает. Чувство шевствует по околоченной, озыбленной земленке хаоса, паники и, наверное, этого. А скорее даже патологичного рахтения любовью.
И в секунду он заныл. Знакомый запах испарился по комнате. Но не мне знаком. Ему. И как бы то ни было, начал писать. Быстро. Одно. Два. Три исправления. И ускорятеся. Стремится к концу. Но что в конце? Он пишет. Слезятся его пальцы. Глаза истераются в истериках. И плохо. Душа сжимается в жаре и распускает волосяную прядь слез и боли. Этого страха рыхлости ощущений. Что он сейчас ощущает? Что у него сейчас в душе? Это страшнее блендеров и других измельчений. Его душа не мельчает. Хуже. Страшнее. Глобальней. Как глобальное может мельчать. Нет. Она расширяется дабы в конце лопнуть. И умереть, ведь когда душа поэму чувсвомнасыщенная лопается – все. Этот смех. Не красный. Не фронтовой. Не пороховой. А ласковый. Ласковый смех. Он сочится после. После лопанья.
Страшно за таким наблюдать. За таким больным клоуном. За таким клоуном. За таким, играющем на свою смерть и высмеивание, клоуном.
Пойдем к ней. К неопределенной нашей. Она проснулась позже на час. Где-то так. Ведь она вчера работала. А сегодня что? Поход по улочке. Погулять с подружками. О том, о сем поболтать. Отдохнуть. Но сначала умыться и поесть. Облегчить прежелтое, небесное личико. Обелить снежнобелые зубы. И насытить памятное тельце. А. Еще душу. Почитать важную литературу. Про нас. Ой. Про них. Я- то уже давно не молод. Она читает про себя. Про любовь в ее возрасте. И сытится ей так. Просто видит любовь она зависимостью, но не властью. Обязанностью, но не авантюрой. Странно, но видимо так видят все ангелы. Видимо так обертывается любовь ангелам. А клоунам нельзя любить. Они… Потом поймете. Потом прочувствуете всю его склоунность.
День только будет. Я пойду пока перекушу чайкой отдыха и вернусь. Ждите.
Глазами ребенка ноет почва. Почва.
Теплостью бытья я чуял запах милых лиц. Вы, ангелочки тесноскормленые болью и полутьмой, как у вас идет сие? Вы радостны, что кислородом подметаете святую пыль с ее, Его и с наших нот?
Кто таков ее?
Один дорогой мне человек. Она внизу. Под нами.
Да, Евгуриий. Мы дышим и Его, и ее, и Вашей пылью нот. А вы нам покажете новый дикларет о Римских завоеваниях? Нам очень интересно. Нам очень нужно. На велико интересно, поэангел Евтуриий. Очень, приочень.
Конечно, мои ангелочки. Раз вам интересно, то обязательно. Только завтра, а то и после завтра. У меня важные планы. Важные ходы нужно сделать.
А вы расскажете о ней? Очень интересно какая она!
Да. Обязательно. Вы главное ждите меня.
«Ангелочки улетели вдаль, наверное, на другое облачко в Ангалос»
Чтож, сегодня суббота, а значит …. Она идет гулять. Она идет бродить по прекрасной весне, по прекрасным берегам зимы у весны. Прекрасное брождение. Пойду отобедаю и затем примчусь на утес облачка и начну глазеть. Какой хороший день. А завтра ангелочкам про нее и про Рим.
Отъезд на паперть к Веснушке.
Коли вам нравятся петушинные бои, то вам понравится мой анекдот.
Приехала бабка в Америку, захотела купить манки, а в английском ничего не знает. Пришла в магазин, у прилавка – негр, ну она ему и говорит:
– Дай манки.
Хахаха.
Теперь продолжим. Я отобедал и отодохнул. Что определенное тело делает понятно – пишет грозяще себе. А тельце вполне неопределенное? Правильно. На улочку.
Начитавшись про эту любовь и эти страдания – она смеется. Иногда удивлятеся уверенности героя. Он такой смелый. Сильный. А она такая – не такая. Как не все. Какая- то альтернативная. Абсолютно все равно на других. На другое мнение от ее. Она такая же. Прекрасная. Прекрасная неопределенное тельце.
И звонит подручжнице. И говорит – гулять. Да. Как же прекрасно оделась. Так дерзко и по-своему официально для войн. Будто на свидание. Так и есть. Она идет на свидание с подручжицой. Будет ее обнимать, целовать, и болтать о всяком таком.
А погода благочестивая. Бережная и оттягивающая горе. Холодность. Тают недоснега. Недосугробы уходят. Все зимушнее отходит на паперть к Веснушке. И целует ей палецы ног. Эту зеленичную, эту природность. Эту чистоту века и любви. Весна – любовь. Зима идет к любви. А Прекрасная неопределенное тельце по любви. Как среди наивной лампочности Солнце. И сжигает весь искусственный, наивный свет. Всех и вся. Ведь оно сила, мощь, власть. А оно Прекрасная сжигает также. Но не мощью и властью. А собой. А своей красотой души и тельца.
О ком думают вороны перед золотом!
Солнечное мое блаженство. Насыщен я звездной пылиной. Прочитал Новый Зарок архангела Адрениила. Хорош он. Так предан Господу. А я его мыслям. Мы так хорошо три назад играли в прололушку. Такая хорошая минутность была. А еще перечитал завет Господа –
Сердца подьянцы решили грести
Наивных детей мужья и деды
Солнце на языке тает, чем у зависимости, медленнее
Окончил на этом. Так завет о влечении и привязи душ. Жуткая вещь это право на разделение сердца на двоих. Вообще странная травма у живого есть. Травма то ли быть желанным, то ли быть любимым. Странное очень. Хочу я быть любимым? Менее чем более. Не уверен. Я вообще в последние дни сам не свой. От того, что я не наблюдал за моией святыней? Или от того, что мне как-то не по душе душинечать? Как-то словно ушиб на сердешке, и я чувствовать стараюсь что-то о душе и так неприятно. Горько. Песочинная утварь начала сочить крошками и мне больно о душе.
И еще эта весна. Красиво конечно, но ощущаю некоторую отзимованность