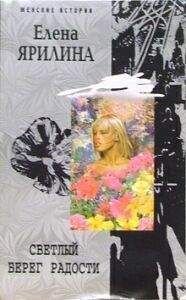— Итак, — сказал он, вставая, — при таких обстоятельствах мне остается только проститься с вами навсегда. Я знаю, что мне теперь осталось делать…
Она тоже встала. Ее несчастные нервы были так взвинчены, а мысль так напряжена, что слова молодого человека показались ей зловещим решением.
— Что? — невольно воскликнула она, — Вы не уйдете отсюда, не дав мне клятву…
— Что я не застрелюсь, — ответил Казаль с оттенком иронии. — У вас промелькнула эта мысль… Нет, не бойтесь, у вас на совести не будет моей смерти… Я просто хотел сказать, что мне остается возобновить мою прежнюю жизнь. Она меня никогда не забавляла, она и не будет меня забавлять, а поможет мне вас забыть… Но позвольте мне дать вам последний совет, — прибавил он, глядя на нее суровыми глазами. — Никогда больше не играйте мужским сердцем, даже если вам говорили много дурного про этого мужчину; во-первых, это не честно, а во-вторых, вы рискуете напасть на кого-нибудь, кто вздумал бы отомстить вам, заметив вашу игру. Уверяю вас, что не все меня стоят, что бы ни думали обо мне ваши друзья.
— Я! — сказала она, — играла с вами!..
— Я играла с вами! — повторила она более тихим голосом. — Вы этого не думаете… Вы не можете этого думать…
Произнося эти слова, она приблизилась к нему. Заметив ее движение, он взял ее руку, и она руки не отняла. Эта маленькая ручка, которую он медленно сжал в своей, горела, как в лихорадке. Он притянул к себе Жюльетту, и она даже не защищалась. Она изнемогала, в минуту разлуки с ним ее мужество ее покидало. Теперь он говорил с ней захватывающим и страстным голосом:
— Ну, хорошо! нет, — шептал он, — нет, вы не играли мной; да, вы были искренни с первого дня и до сегодняшнего; нет, вы не были кокеткой… Вы — не кокетка. А если вы не играли со мной, то знаете ли, что это значит?.. Ах, дайте мне сказать вам это. Гордячка вы этакая, вы хотите бороться с очевидностью; вы догадались о моем чувстве, и оно трогало вас, вы разделяете его — значит меня любите… Не отвечайте мне — вы меня любите! В эти последние недели я это часто чувствовал, а так же почувствовал сейчас, входя сюда. В эту секунду, после сомнений, я опять это живо чувствую… Простите меня… И молчите… Дайте мне повторить вам: мы любим друг друга. Я хорошо понимаю, кому и в какую минуту вы поклялись не выходить вторично замуж, но как могут бороться со страстью детские обещания, которых мы не имеем право ни давать, ни требовать, так как не имеем права клясться в том, что не будем жить, не будем дышать и навсегда закроем свою душу свету, небу и любви.
Эти фразы, произносимые в такие минуты всеми любовниками и не банальные только потому, что передают нам нечто бессмертно правдивое, а именно инстинктивный порыв к счастью, Раймонд говорил, приблизив свое лицо к лицу Жюльетты. Он притянул ее к себе еще ближе и почувствовал, как белокурая головка молодой женщины опустилась на его плечо. Он наклонился над ней, чтобы поцеловать ее. Но страх ему помешал… Глаза ее были закрыты, и мертвенная бледность покрывала ее лицо. Чрезмерное волнение лишило ее сознания. Испуганный ее бледностью и ища флакон с английской солью, он взял ее на руки и отнес на кушетку. Таким образом, прошло пять минут ужасной для него тоски. Наконец, она приоткрыла глаза, провела руками по лбу и, увидя Казаля, стоявшего перед ней на коленях, с ужасом очнулась. С безумной силой сознание положения охватило ее и, отшатнув его, она со страхом сказала:
— Уходите, уходите. Вы дали мне слово повиноваться… Ах! Вы меня убиваете.
Он хотел говорить, взять ее руки, но она повторила:
— Вы дали мне слово, уходите… Не успел он еще ответить ей, как она нажала кнопку электрического звонка, валявшуюся на столе среди безделушек. Заметив этот жест, молодой человек должен был встать. Вошел лакей:
— Простите меня, — сказала г-жа де Тильер. — я слишком плохо себя чувствую и должна вас покинуть… Франц, проводив г-на Казаля, пошлите мне горничную. Я себя очень плохо чувствую…
Много смеялись над людьми, воображавшими себя знатоками женщин, доказывая им, что в жизни каждого человека встречаются такие дни, когда эта опытность становится ни на что не пригодной. Действительно, она нисколько не препятствует тому, чтобы иллюзия, символизированная язычниками в классическом образе повязки Амура, рано или поздно овладела самыми скептически настроенными людьми; как только сердце оказывается в плену, Дон Жуан ведет себя с наивностью Фортунио, а такой человек, как Раймонд Казаль, с безумной застенчивостью делает предложение женщине, которая уже столько лет была любовницей другого. Может быть, это необыкновенное явление и служит подтверждением того, что любовь подобна внушению. Гипнотизер кладет книгу в руку усыпленного. Он говорит ему: Понюхайте эту розу, — загипнотизированный подносит книгу к лицу, на котором разливается блаженство человека, сорвавшего во время прогулки чудный цветок и с жадностью вдыхающий его нежный аромат. Женщина, которую мы любим, рассказывает нам самые странные романические истории; и из ее обожаемых уст мы, как святую истину, благоговейно принимаем такие рассказы, которые заставили бы нас только пожать плечами, если бы исходили от кого-нибудь другого. Сходство это тем более поразительно, что подобное состояние иллюзии чаще всего рассеивается мгновенно, как гипнотический сон. Легкое дуновение на закрытые веки пробуждает спящего. Достаточно иногда, чтобы незначительное обстоятельство коснулось надлежащей точки, — и влюбленный начинает бороться со своей доверчивостью с силой скептицизма, равносильной этой самой доверчивости. В продолжение всего объяснения, на которое наконец решился Казаль, он ни минуты не сомневался в правдивости г-жи де Тильер. Он поверил и тому, что мать сделала ей замечание, и тому, что она дала таинственную клятву никогда больше не выходить замуж. Если бы Жюльетта, во избежание столкновения его с де Пуаяном, придумала какие угодно предлоги, даже самые невероятные, то и тогда бы у этого прежнего любовника г-жи де Корсьё, Христины Анру и множества других женщин не было бы, и намека, и тени сомнения. Магнетическая сила, исходившая от молодой женщины, имела над ним такую власть, что ни в тот день, когда произошла описанная нами сцена, ни на следующий день, ни на третий он, обладавший обычно большой твердостью и ясностью духа, не мог остановиться ни на каком решении. Из этого разговора он вынес две очевидные и несомненные уверенности: во-первых, что Жюльетта любила его, а, во-вторых, что она не хотела его принимать; но он и не думал даже о том, чтобы воспользоваться ее любовью для борьбы с принятым ею решением, пред которым преклонялся — как школьник на каникулах, отступающий перед ловко разыгранным раскаянием какой-нибудь тетушки, умело вскружившей ему голову. Наконец, он тоже любил и любил в первый раз, почему пробуждение его должно было быть еще более ужасным.