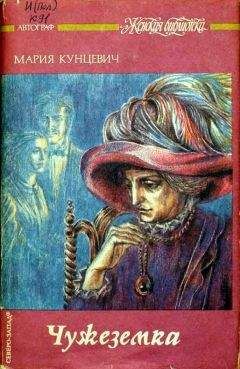Люди оборачивались — наверное, я громко сам с собой разговаривал. Но чем дольше я говорил, тем сильней донимала меня боль, все внутри горело огнем. А разве есть у меня Кася? Каси у меня тоже нет. Касю забрал у меня Питер. Для себя и на продажу. Фотограф. Парадная вывеска сутенера. Страусы, они все такие — умеют отлакировать любое свинство. Фотограф и Кася. Питер и Кася. Кася и тузы, от которых пахнет мартелем и сигаретами «Честерфилд», пунктуальные, лояльные, корректные, платежеспособные. У них есть все, чего нет у меня.
Все, чему я научил Касю, она продает им — мою любовь продает им, свои глаза, ноги, тихие слова свои. Я понесся как сумасшедший, по дороге сшиб какого-то сопляка и ворвался в «Конюшню». Драгги что-то рисовал, посмотрел на меня, словно на привидение, что-то там крикнул, а я не мог говорить — спина у меня разламывалась от боли, еле-еле отыскал я нашу комнату, закрыл дверь на защелку, бухнулся на кровать.
Скрутило меня здорово, я кое-как встал, налил себе джину, выпил. Голова стала ясной. Разыскал нож, Кася недавно его купила резать жаркое, и спрятал под подушку. Не моя теперь Кася, пусть будет ничья. С ножом я умею обращаться. Лежу и жду. Не стоит ее пугать, никаких попреков. Пусть сначала разденется, я скажу все, а потом — суд. Пока что уложу чемодан. Напишу письмо матери, не такой уж плохой она была для меня Подружкой.
И как она, я стал вдруг вспоминать о том, что было. Я ведь тоже был. Был — и больше меня не будет, пойду в полицию во всем признаюсь. Я не могу сам себя убить. Да и чем? Нет ни оружия, ни яда. Повеситься не могу — после того, что было с Анной и Драконом, мне это противно. Зарезаться?.. Нужна твердая рука. Не будет у меня сейчас твердой руки.
Чемодан Драгги пусть доставит Франтишеку, попрошу об этом в записке. И гитару, и аккордеон. И новые сувениры. Пусть Подружка хранит, если захочет.
Я дрожал как в лихорадке, в глазах темно. Нужно успокоиться, лягу, но сначала подниму защелку, пусть Кася думает, что все как всегда, меня нет, я приду, когда стол будет накрыт, а она будет ждать меня за столом в золотой пижаме, пусть так думает в последний раз, любовь моя.
Вроде бы я уснул. Поднимаю голову — стук-постук каблучки по коридору, пропадаю я совсем. Обрадовался, как всегда. Слышу — входит.
Увидела, что я лежу, побледнела: «Что с тобой, милый? Спина?» Сбросила сумочку, стоит возле меня на коленях, обнимает: молодец, умный мальчик, заболел, вернулся пораньше, не забыл про своего доктора.
Оттолкнул я ее. А она не обиделась даже, только глаза опять словно бы за стеклом. «Не сердись, дорогой, — говорит, — я была у дантиста, так спешила, на обед у нас сегодня курица…»
И тогда я полоснул ее ножом. Тем самым. По шее, по лицу не смог, попал в плечо. Кровь течет сквозь рукав, а я кричу: «Дантист? Альфонс — сутенер, а не врач! Его зовут Питер, а ты — б…»
Примчался Миодраг. Кася от потери крови теряет сознание, но все же, как только приходит в себя, твердит: «Драгги, скажи ему, кто такой Питер, Драгги, скажи ему про меня».
Рана оказалась неглубокая. Кася не успела снять жакета. Они все говорили, объясняли, приволокли ко мне фотографа, ничего — дядя как дядя, жена у него, дети. Солидный, немолодой, я смирился с тем, что Кася работает. Только в «Конюшне» оставаться больше не смог.
Еще давно, когда я в первый раз приехал в Лондон, у Лайонса я встретил Стасека. Я его и не узнал сначала: был он в военной форме — поручик армии Андерса[45]. До войны приходил к нам домой на уроки танца, было нам тогда лет по четырнадцать. А теперь он толстый, лысый. Наверное, у них под Монте-Кассино[46] было получше с харчами, чем у нас в Варшаве, но только толщина ему ни к чему. Уговаривал не двигаться с места, из Лондона, ни на шаг. Женатый.
— Что же это ты, — спрашиваю его, — на первой попавшейся женился? Двадцать два года всего и уже выдохся — со всем распрощался?
— А с чем мне было прощаться? — говорит. — Это ты у нас пижон-обольститель, а со мной девочки танцевать не хотели.
Договорились мы с ним о встрече в Кардоуме. Познакомил меня с женой. Она шотландка, дочь фермера. Вроде и ничего, только щеки лиловые. Ее отец купил им дом на Эрл-Корт в рассрочку.
— На что живешь? — спрашиваю.
— Пока что английский король еще своим верным союзникам платит, ну а потом что-нибудь придумаю. Страна демократическая, люди честные, умный человек может хорошо заработать.
— Кражи со взломом или мокрое дело? — спрашиваю.
— Да нет, — говорит, — здесь кодекс уважать надо, буду делать бизнес. — Он оставил мне свой адрес, но я не пошел.
На другой день после нашего скандала Кася отлеживалась, а я сел в автобус и поехал. Стасека не было дома. Молли, его шотландка, вспомнила меня. Эдакая толстуха, беременная на шестом месяце. У них как раз освободилась квартира в подвале, все чисто, отремонтировано, сначала она даже подумала, что я пришел по объявлению. А Кася до того рада была, что я разрешил ей работать, — на все готова. Мы мигом переехали. Неприятностей с полицией никаких. У Стасека везде знакомые. «Коллега», — говорит про меня в полиции. Поручился за меня. «Род занятий?» — «Компаньон», — говорит.
— В чем я тебе буду компаньоном? — спрашиваю.
— Ну, это мы еще увидим.
Пока что я вместо Молли ходил в магазин, возился в саду, в общем, дел хватало. Все лучше, чем вывозить мусор, только что здесь я все делал за спасибо. Опять я стал играть на аккордеоне, прибежали соседки: устраивается вечер, будет продажа лотерейных билетов в пользу пожарной команды, очень просили выступить. Ну, я выступил. За вечер мне заплатили фунт, накормили ужином. Кася на вечер не пошла. Ничего мне не сказала, а когда я вернулся, притворилась, будто спит.
Она и раньше так делала: ей нравилось, что я ее бужу, всегда казалась такой испуганной, положит мою руку себе на грудь — вот, мол, как сердце бьется, — что-то мурлыкала, потягивалась, а я целовал ее в ухо, ужасно мне ее ухо нравилось, и так нам весело становилось. А теперь нет у меня прежней смелости. Рана у нее еще не зажила. Обидеть ее боюсь. Она тоже обращается со мной так, будто я хрустальный, а вернее говоря, бандит, у которого за голенищем нож. Ее новое имя мне мешает.
— Кася, — говорю, — зачем тебе понадобилось менять Кэтлин на Лиззи? Я же не позволил старухе Маффет называть меня Майк. Ты теперь не такая, как раньше.
А она посмотрела на меня так грустно, словно бы ей было уже за тридцать.
— Михал, — говорит она, — ты не Майк и не Михаил, а я не Екатерина и не Лиззи. Это все для людей, а друг для друга мы — это мы. Понимаешь?
Идет навстречу прямая, руки опущены, ноздри дрожат. Подошла вплотную, подняла на меня глаза, их цвета я даже не заметил, но взгляд ударил в голову, как вино.