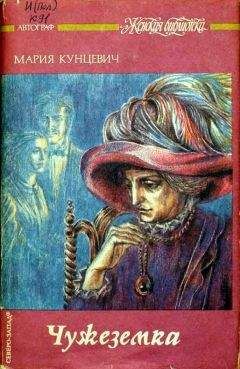— Кася, — говорю, — зачем тебе понадобилось менять Кэтлин на Лиззи? Я же не позволил старухе Маффет называть меня Майк. Ты теперь не такая, как раньше.
А она посмотрела на меня так грустно, словно бы ей было уже за тридцать.
— Михал, — говорит она, — ты не Майк и не Михаил, а я не Екатерина и не Лиззи. Это все для людей, а друг для друга мы — это мы. Понимаешь?
Идет навстречу прямая, руки опущены, ноздри дрожат. Подошла вплотную, подняла на меня глаза, их цвета я даже не заметил, но взгляд ударил в голову, как вино.
— Михал, — говорит, — для нас нет ни чужих, ни своих потому, что мы — это ты и я. Почему ты меня боишься? Я никогда не буду твоим судьей. Михал, — она посмотрела в сторону, — прости, что тебе пришлось меня поранить, забудь, тебе заниматься нужно. — Мы долго стояли с ней и глядели в сад. И Кася впервые при мне плакала.
А я и верю ей и не верю. Времени свободного у меня хоть отбавляй, прифрантился как мог и отправился в ту контору, где Кася кончала свои курсы. Пришел, сказал, что я репортер польской газеты. Я, когда мне надо, умею баб очаровывать. Слово за слово, понемногу размотал весь клубок. Кася на самом деле работает в студии Питера, позирует, выполняет заказы разных солидных фирм, которым лондонские журналы отводят целую страницу, а то и две. Похоже, что Питер сделал на ней карьеру. В их конторе фотографам строго-настрого запрещается крутить романы с моделью. Вроде бы и жена его работает в студии ассистенткой. Следит за Касей.
Полегчало мне? Какое! Одну тяжесть заменил другой. Я поверил в то, что Кася обманывала меня не ради другого мужчины и не со скуки, а ради того, чтобы я перестал возить мусор, сел за книги. Нет, Касю я еще не потерял. Но как мне ее удержать? Пойти учиться? Она сейчас зарабатывает столько, сколько я через шесть лет не заработаю. Купила мне двенадцать рубашек на Бонд-стрит. Патефон. Занавески. А что я могу ей купить? Пошел я на барахолку, эдакий местный Керцеляк, купил двух маленьких птичек с разноцветными перышками из каких-то уцелевших после бомбежки школьных коллекций, смастерил стеклянные клетки, на клетках нарисовал монограммы К и М, повесил над кроватью. Кася, как увидела, запрыгала от радости, захохотала, кинулась мне на шею, а потом заплакала. А я подумал: что-то моя Кася то и дело плачет, раньше такого не было.
Пошли мы с ней в театр. В антракте выходим покурить, а люди вокруг шепчутся: смотри, вон там… налево… в зеленом платье… Лиззи из мартовского номера «Вога». Мы делаем вид, что не слышим, она прижалась ко мне, взяла под руку, пойдем, мол, отсюда. А я нет, стою важный, как петух. Пусть смотрят, пусть завидуют. Для них она Лиззи, для меня — Кася. Не двигаюсь с места, протягиваю ей еще одну сигарету, даю прикурить, а у нее рука дрожит. Отчего? Может быть, меня стесняется? А рядом со мной стояла эдакая жгучая брюнетка, она еще мне в зале строила глазки. Тут я подошел, посмотрел на нее со значением, она — раз и уронила сумочку. А я поднял, да так, чтобы невзначай погладить ей ногу. Она сразу распалилась. Берет сумочку и пальчиком поддевает мой пальчик. Смотрю на ее губы, она говорит thank you[47] так, словно поцеловать хочет.
Что потом на сцене происходило, даже понятия не имею. Мы сидим рядом на стульях, а между нами вроде бы ледяная стена. «Милая, — говорю я громко, — дорогая». Она молчит. Придвинусь — отодвигается, взгляну на нее — отворачивается. Выходим. Останавливаю такси, едем. Она бросается мне на шею.
— Помнишь, дорогой, как мы первый раз пошли в кино? Помнишь? Потом ни ты, ни я не помнили, что там на экране показывали. Какие мы тогда были счастливые…
Ага, значит, так? Воспоминания пошли. Мы были… что ж, нас нет? Почему? В чем причина? Стиснул зубы. Молчу. Слышу — плачет. Опять слезы.
— Ты меня совсем не любишь. Думаешь, я не видела, как ты смотрел на эту идиотку с подведенными бровями.
В эту ночь мы любили друг друга как никогда. Ни раньше, ни потом не было у нас больше такой ночи — ночь-поединок. Кто терпеливее, кто щедрее, кто сильней способен унизиться, кто победит. Взошло солнце, а мы были словно мертвые. Мне было страшно ее жалко. Перед тем как уснуть, она поцеловала мою руку, я взглянул на нее — лицо грустное-грустное. Я встал, оделся. Все думал — непременно нужно что-то изменить. Но только что?
Михал говорит: «Посмотри на Молли, видишь, какое у нее брюхо? Мне делается нехорошо при одной только мысли, что там, в глубине, лежит человек, эдакий головастик с согнутыми ногами, месяца через два он с воплями выскочит, распрямится, потом будет ходить на двух ногах и корчить из себя идеалиста». А в другой раз сказал: «Жаль мне эту Молли — раньше все же была похожа на женщину, а теперь и не женщина вовсе» А потом так ласкал меня, так радовался, что у меня нет брюха, есть живот и будущий бандит там не прячется.
Не знаю, что он хотел этим сказать, да и знать не хочу, знаю только: нельзя мне иметь ребенка; раньше я и сама не хотела быть ни женой, ни матерью, я хотела, чтобы у нас с Михалом был такой мир, где нет ни жен, ни матерей, и такой мир у нас был.
А что у нас теперь? Михал слишком много думает, и от этого нам только хуже; вчера Питер снова фотографировал меня в подвенечном платье, говорит, что это «лучший твой номер, у тебя очень-очень поэтичный облик, в самый раз для фаты». Я отвечаю, у меня никогда не будет своей собственной фаты, а он удивился — почему? А я говорю, мне фата не нужна, но только это неправда, я бы очень хотела войти в церковь во всем белом и чтобы рядом шел Михал с миртовой веточкой в руках, не так, как мы шли с Брэдли — я в твидовом костюме, он с авторучкой в кармане пиджака.
Михал затаил на меня обиду, я не знаю теперь, что с ним, когда он уходит, когда он не со мной; как-то раз вернулся с подбитым глазом, с рассеченной губой и сказал, что упал и ушибся о жестяную бочку из-под мусора на свалке в Баттерси, я ему поверила, а должна была знать, что какие-то типы его избили, ведь он тогда обо мне думал, я непременно должна была это почувствовать. Сейчас он близко, и я о нем думаю, он кладет голову мне на живот и не знает, что там прячется его ребенок, уже два месяца, подожду еще немного, никакого ребенка не будет, и Михал ничего не узнает.
Мы хотели быть не такими, как все, но мы такие же: никто ни о ком ничего не знает, и мы ничего не знаем друг про друга, я знаю только, что Михал не хочет ребенка, и я тоже не хочу, с моим «поэтичным обликом» платья для беременных не имели бы на мне никакого вида и на что мы тогда бы жили: Михал не работает и учиться не хочет.
Я ему говорю: «Молли сказала, что тебя никогда нет дома, ты не работаешь, где же ты пропадаешь? Уж не у той ли брюнетки?» Я знаю, что брюнетка тут ни при чем, это я могу сразу определить по тому, как он меня целует, а еще больше по тому, как на меня смотрит, спрашиваю, чтобы что-то сказать, а он отвечает: много будешь знать, скоро состаришься. Молли что-то знает, но только не скажет, Михал теперь лучше выглядит, поет, скоро начнет заниматься — я купила ему книги.