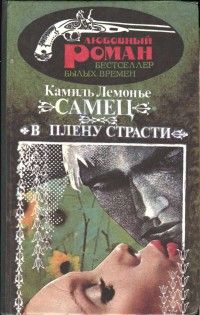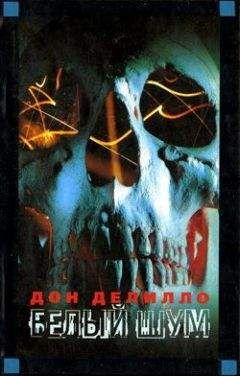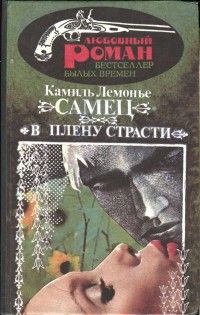Мужик предупредил его, что целые отряды лесничих рыскают по всем кустарникам. Жандармы были тоже снаряжены, и вся эта банда окружала высокий лес широким поясом. Одно оставалось ему: перекочевать в родной густой и темный лес. То был его лес. Он знал его вдоль и поперек, каждый изгиб, каждую ветку. Этот лес был связан с каждым мгновением в его жизни. Мудрено было изловить его там.
Десять миль он мог пройти в одну ночь при условии, если ему ничто не помешает. Он запасся порохом и свинцом, перекинул ружье через плечо и пустился в путь. Он шел большими шагами, избегая открытых мест, прячась за стволами деревьев, подвигаясь ползком вдоль заборов, порой останавливаясь, когда шум казался ему подозрительным, и затем снова шагал быстрой и проворной походкой козули, согнувшись в дугу.
Был один опасный момент. Ветер донес до него издалека звуки голосов. Он остановился, прислушиваясь. Насколько он мог разобрать, шло десять человек с правой стороны. Шум шагов урывками слышался ясно. Ищи-Свищи побежал некоторое время, затем снова прислушался. Никакого шума, кроме шелеста листвы.
Сияние заливало белым светом небо, когда он подходил к лачужке Куньоль. Он чувствовал голод и жажду. Сон одолевал его. Он постучал в окошко со двора. Старая Куньоль спала крепко. Она проснулась лишь тогда, когда зазвенели окна, дребезжа под его пальцами.
— Бог с тобою! Кто там? — проговорила она. — Иди своей дорогой! Здесь только бедная старуха, у которой одна защита — милосердный Бог.
Он назвал свое имя через замочную скважину.
Тотчас же голые ноги зашлепали по половицам, и она открыла дверь.
— Это ты, сын мой?
— Дай мне пить!
Он затворил за собою дверь и растянулся на постели старухи. Уф! Он измучился. Спросил о Жермене. Она пожала плечами, не имея никаких известий.
И на него, добравшегося до этого домика, чтобы выспаться, нахлынули яркие воспоминания при виде этой комнаты, где он провел столько отрадных мгновений. Увидеть снова ее! Неодолимое желание ощутить ее горячее полное тело рассеяло его сон. Он сунул Куньоль в руку деньги.
— Меня схватят, если ты вымолвишь хоть одно слово. Лесничие ходят за мною по пятам. И все-таки мне надо видеть Жермену. Мне надо, необходимо, понимаешь! Возьми свою палку, беги на ферму. И пусть я после издохну, мне наплевать, это так же верно, что как Бог есть Бог, если он существует.
Он напился, наелся, выспался и, условившись встретиться со старухой в кустарниках, ушел.
Натянутые отношения между братьями и Жерменой смягчились. Казалось, смытое оскорбление мало-помалу загладило и ее позор. Как раньше — точно установилось общее соглашение не обращать на нее внимания, так и теперь произошло как будто молчаливое решение смягчить обращение с ней. Голос отца звучал не так строго, когда он говорил с нею. Старик был рад обрести в своих сыновьях свой прямой и крутой нрав. Избитые и поруганные Эйо будут впредь держать себя осторожно. Они отведали, насколько тяжелы кулаки его сыновей. К нежности примешивалась гордость, когда Григоль, вернувшись с фермы в воскресенье, рассказал ему о происшедшем сражении. Сыновья пришли немного позже. От радости старик расчувствовался.
— Так, ребята, отлично! Нате вот по двадцати франков на брата. Я очень, очень рад.
История облетела всю ферму, разукрашенная подробностями, которые присовокупил Григоль, не забывая и о себе. В продолжение целого часа, он, оказалось, дрался с Кроллэ, наделяя его нещадными тумаками. Под конец последний не выдержал и свалился… Тогда Григоль, как победитель, наступил ему ногой на грудь.
Жермена тоже чувствовала, что позор ее был отчасти смыт ударами, полученными Эйо. Она теперь имела право считать себя обеленной, и ее презрение к бледному попу возросло еще от его трусливого поражения.
Дни уныния и печали постепенно растаяли в ясном спокойствии. Она начинала питать надежду. Ее жизнь, разбитая на мгновение, могла бы снова начаться. Ее приключение рассеется среди других подобных историй. Лето становилось для нее милей. По мере того как восстанавливалась ее прежняя жизнь, она мало-помалу приходила в себя.
Между тем как она машинально совершала работы по дому, в ней пробуждалось благоразумие; и более решительно, чем когда-либо, она дала себе слово противиться попыткам Ищи-Свищи видеться с нею.
В это утро на ферму пришла Куньоль. Она двигалась, согнувшись в три погибели, опираясь на палку и едва волоча свои ноги. Ее сухие кости болтались в скомканных черных чулках, видневшихся под холстинной юбкой, доходившей лишь до колен. В руках она несла свою неизменную плетеную корзину, заплатанную местами материей.
Жермене стало немного стыдно, что она увидела ее перед собой, загадочную и подозрительную. Она делала ей какие-то воровские знаки, громко бормоча свои благословения. Воспоминания преступных минут оживали в ней с приходом на ферму этой сводницы. Почем знать? Быть может, он дал ей поручение. Тем хуже! Она ничему не будет внимать, и однако ее недавняя решительность сменилась теперь любопытством.
Быстро оглянувшись кругом, она увлекла старуху к фруктовому саду. Куньоль потащилась вслед за ней, стуча своей палкой по дороге, и причитала.
Когда они очутились за забором, Жермена спросила:
— Ну, что?
Куньоль оперлась обеими руками на свою палку, перевела дыхание, причем из ее груди вырвались хриплые, клокочущие звуки, как из старых часов, и начала:
— Милая ты моя, святая моя. Я совсем уж расклеилась с тех пор, как ты была в последний раз. Не знаю уж сама, как Господь Бог принес меня сюда. Судорога мне все ныне ноги сводит. Так все и жду, что вот-вот свалюсь. Я вовсе, милая, не хочу сказать тебе ничего дурного, а только, дорогая моя, райская красоточка перестала уже думать о своей старой Куньоль.
Я говорила себе: у нее и так, без моих охов да вздохов, дел много, но все-таки мне было как-то не по себе. Может, она забыла обо мне, думала я. Я-то ей доставляла маленькие услуги! Ах, что вспоминать! Миновало хорошее время, когда вы встречались, бывало, у меня в домике, да и старухе было отрадно, да и вы знали, что у меня, как у Христа за пазухой, уж никто не придет глазеть. Да ведь и никого никогда не бывало, сама знаешь. Ну, ничего, думала я про себя, пускай себе дуются. Снова настанет мир. Прекрасная была парочка! Так под стать друг другу! Прямо словно Господь Бог создал вас друг для дружки. Я любила вас, как родных, как сына с дочкой. Право! И жизнь мне была отраднее и легче, не то, что теперь. Чего таить, родная моя, он-то, бедняжка, все заходил да расспрашивал о тебе! Всегда он ко мне ласков и добр. И никогда не пропустит, бывало, всегда что-нибудь, а уж даст, да еще назовет дорогой маменькой и прибавит, бывало: «На вот тебе, старушка, порадуйся на старости лет. У тебя башмаки-то худы, каши просят, и лачужка-то твоя того и гляди развалится, а дожди не щадят, небось вся в дырах. Поди-ка скажи ей. — Да, конечно, — отвечала я, — у нее найдется для меня кое-что. Может ли быть, чтобы у нее не нашлось двух рубашек, платьица да старых юбок, немножко поесть и можжевелочки на два-три глотка, — вот я зиму-то и скоротаю. И чтобы она допустила свою старушку ни за что ни про что умереть? Кто смеет это сказать? Какие-нибудь злыдни могут такое наплесть! Но я-то ведь знаю ее хорошо! У нее сердце золотое!.. Я всегда по вечерам молюсь за тебя да поминаю твою матушку, — говорю тебе, как перед самим Господом Богом, который поставит тебе одесную!»