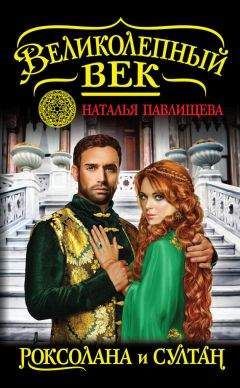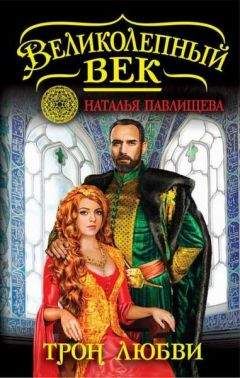– Неужели?
– Да! Вот:
Прости, если сделал я что-то не так.
Тебя лишь, Хуррем моя, вижу в мечтах!
Ее голос звенел, в нем слышалось торжество чувствующей, что ее любят, женщины.
Хафса смущенно хмыкнула. Хорошо, что, кроме нее, в комнате только кизляр-ага, хезнедар-уста и пара молчаливых служанок, которые скорее проглотят собственные языки, чем распустят их, потому что прекрасно знают, что могут лишиться не только этих самых языков, но и голов, во ртах которых те помещаются.
– Думаю, не стоит по всему гарему кричать, что именно пишет Повелитель. Это для тебя строчки, а не для всех.
– Конечно. Он не получал моих писем до сих пор. Как вы это объясните, кизляр-ага?
Хуррем повернулась к евнуху так быстро, что тот даже отшатнулся, замямлил:
– Откуда мне знать? Гонец не справился или пропал. Такое бывает… Не только с твоими письмами, даже с письмами самого Повелителя.
– Мне писать, что вы не выполняете наказов Повелителя, или пока подождать, вдруг у вас появится время их выполнить?
– Появится, появится. Занят был, Хуррем, все сделаю, что Повелитель велел. Ведь вожу же вас в его библиотеку…
Валиде поморщилась, было противно слушать, как лебезит евнух; сделала знак, чтобы уходили.
Роксолане тоже было противно, да и вовсе не хотелось разговаривать с кизляр-агой, она поспешила к себе, чтобы снова и снова перечитывать письмо от султана. Не забыл, не разлюбил, жаждет встречи! Остальное неважно, пусть злится валиде, пусть мечется кизляр-ага, пусть завидуют и шипят вслед наложницы и рабыни, она знает, что нужна Сулейману, а это главное.
«Мне без тебя целый мир пуст…». Разве могут быть лучшие строки?!
Она села у светильника, борясь с желанием немедленно написать ответ. Нет, ее письмо должно быть столь же изящным и непременно со стихами, потому нужно сначала все продумать. Завтра напишет…
Со вздохом свернув письмо трубочкой и завязав ленточкой, она сунула драгоценное послание за пазуху и взялась за покрывало на постели. Сейчас лучше лечь спать. Роксолана уж помнила каждую букву письма, знала, что до утра будет лежать и, глядя в темноту, повторять и повторять мысленно волшебные строки.
Счастливо улыбаясь, отдернула покрывало и замерла…
Она и сама не могла бы объяснить, что именно остановило. Несколько мгновений, даже не понимая, просто смотрела на постель. Нет, там ничего не было… ничего, кроме… осторожно склонилась, потом осторожно откинула покрывало в ноги и шагнула к светильнику. В спальне никого не было, а светильник тяжелый, но женщина не позвала служанок, подтащила светильник сама.
Нет, чутье ее не подвело: на зеленой простыне постели щедрой рукой было рассыпано битое стекло! Тонкие, словно иголки, осколочки поблескивали на свету.
Роксолану прошиб холодный пот. Она заметила случайно, просто пламя чуть качнулось, и ей показалось, что на простыне что-то сверкнуло. А ведь могла бы просто лечь. Лечь на острое битое стекло, загнав себе осколки в спину, в ноги, в живот!
Стало страшно, по-настоящему страшно. Она однажды еще девчонкой в Рогатине загнала себе крошечный кусочек стекла в ногу. Та болела долго, пока не нарвала и тело само не вытолкнуло осколочек из себя. Но это один, а если много?
Как теперь жить? Бояться лечь спать, сесть, взять что-то в рот, бояться вообще что-то тронуть руками? Пока вернется Повелитель, ее могут уничтожить, причем заставив страдать и умирать в мучениях. Для отвода глаз казнят какую-нибудь рабыню, но ей от этого легче не станет.
Кто мог насыпать стекло? Только те, кому поручено ее оберегать, те, кому она должна доверять больше всего. Постель перестилает Гюль… Неужели?! Они с Гюль в гарем попали одновременно, но разве вина Роксоланы, что девушку не заметили, что так и осталась она просто рабыней? К себе прислуживать взяла, чтобы не попала к кому-то вроде Махидевран, работать не заставляла, для себя многого не требовала. Но они с Фатимой сначала молча смотрели, как баш-кадина избивает соперницу, а потом заглядывали в глаза, чтобы не прогнала.
Теперь Фатимы не было, она попросилась на покой, а вот Гюль осталась. За что же ты меня так, Гюль? Неужели зависть и ревность столь сильны, что способны заглушить все остальные человеческие чувства? Что же за место такое – гарем, что в нем проклято все хорошее?! Разве можно жить только ненавистью, сплетнями, всего опасаясь или клацая зубами, чтоб боялись тебя? Что это за жизнь?!
Господи!!!
Нет, никакая любовь султана не спасет в этом волчьем логове, невозможно остаться чистой в этой грязи, сохранить ту самую незамутненную душу. А если так, то стоит ли пытаться сохранить? Зачем? Чтобы погибнуть, будучи преданной теми, кому желаешь только добра?
Если бы ей снова расцарапала лицо Махидевран или вонзила нож в спину Гульфем, Роксолана поняла бы, не простила, но поняла. Но ждать беды от тех, с кем делишь кусок лепешки, значит, не жить, а превратиться в забитое, полусумасшедшее существо.
Нет, Босфор рядом, лучше уж туда – в его волны. То-то будут рады в гареме!
Роксолана не заметила, как долго простояла над раскрытой постелью, скорее всего – несколько мгновений, просто понимание ужаса ее положения потрясло настолько, что счет времени потеряла. Услышав шум от перетаскиваемого светильника, в спальню заглянула служанка. Роксолана стояла, все так же уставившись на постель.
– Госпожа…
Служанка не успела спросить, не нужно ли чего-то; еще мгновение, и Роксолана бросилась бы бежать на самый верх стены, чтобы оттуда прыгнуть в волны Босфора. Но внутри вдруг требовательно толкнулся ребенок. Впервые, хотя давно пора бы. Напомнил о себе, о том, что она не одна, что не имеет права распоряжаться и его, не рожденной пока жизнью.
Еще мгновение Роксолана стояла, прислушиваясь к толчкам внутри себя. Но ребенок поменял положение и затих.
– Маленький мой, как же я могла, как посмела думать только о себе?! Нет, я не могу, не имею права сдаться, я должна выносить и родить тебя, а потом вырастить, даже если придется всех остальных просто загрызть.
Она отшвырнула покрывало и вдруг решительно собрала в ком простыню, покрывавшую матрас. Делала это осторожно, стараясь не касаться середины и не трясти.
Служанка кинулась:
– Госпожа, давайте я сделаю.
Роксолана остановила ее жестом:
– Стой, где стоишь. Кто стелил постель?
– Гюль! Она сегодня меняла простыни…
Значит, все-таки Гюль?
– Не трогай больше ничего, пока я не вернусь, и сюда никого не пускай, Гюль тоже!
Это же она приказала стоящему в коридоре евнуху:
– Никого без меня в мою комнату не пускай! И никого не выпускай!
Тот ничего не понял, но на всякий случай кивнул. Странная эта Хуррем; то к себе прибежала, сверкая глазами, то теперь умчалась с простыней в руках. Может, кто-то спал на ее постели? Евнух тихонько хихикнул от такого предположения.