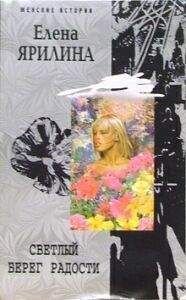— Герберт прав, — думал он на другое утро, проезжая верхом на Темерере по самым пустынным аллеям Булонского леса. Серое небо окончательно взвинтило его и без того уже натянутые вчерашней попойкой нервы: «Самые лучшие ничего не стоят… Но эта — все же лицемерка!.. Да, потому что очень правдоподобно солгала мне в двух пунктах… За этим разрывом что-то кроется… Но что?»
Он не хотел ответить себе и ясно произнести слово, терзавшее его душу. Он предугадывал, что такая внезапная решимость Жюльетты по отношению к нему объяснялась исключительно влиянием на нее другого мужчины, и эта мысль была для него невыносимой. В результате этой внутренней бури бедный Темерер вернулся в конюшню весь взмыленный и разбитый усиленной ездой, к великому огорчению приставленного к нему грума. Сам же Казаль около двух часов опять направился к улице Matignon. Зачем? Он заранее знал, что г-жа де Тильер наверно и окончательно отказала ему от дома, но он чувствовал настоятельную потребность убедиться в этом еще раз. Он рассчитывал также, что из тысячи у него может быть только один шанс на то, что она не посмеет еще дать приказание его не принимать. В таком случае он увидит ее и вырвет у нее истинное признание причины, сразу побудившей ее к такому скачку в их отношениях. С волнением и самой томительной тоской увидел он угол этой улицы и длинную ограду сада, окаймлявшую с этой стороны фасад дома. Не сказав ничего швейцару, он прошел прямо к маленькому крыльцу, защищенному стеклянной будкой. Сила желания была в нем так горяча, — а мы всегда так готовы верить в то, чего сильно желаем, — что он был горько разочарован, когда лакей с непроницаемым лицом ответил ему:
— Маркизы нет дома…
«Я должен был этого ожидать, — сказал себе Казаль, — и приходить выслушивать это, значит, не иметь гордости».
С этой мыслью он пошел обратно тоскливой походкой человека, не имеющего перед собой никакой цели, как вдруг, рассматривая улицу острым взглядом, действующим совершенно механически у охотников, рыболовов, фехтовальщиков и вообще всех людей, постоянно и подробно наблюдающих за всем, что происходит вокруг них и перед ними, он увидел на другом тротуаре господина, который шел в противоположную сторону и которого он сначала не узнал, хотя нерешительно обменялся с ним поклоном.
— Ах, черт возьми, — вдруг вспомнил он, — да это граф Генрих де Пуаян… Да, да… Он хорош с г-жою де Тильер… Я помню, что слышал, как г-жа де Тильер или де Кандаль, не знаю, говорили, что он возвращается на этих днях… Может быть, он идет к ней… Посмотрим, примут ли его… Если да, то мне уже нечего сомневаться: дверь закрыта только для меня…
Он обернулся, следя глазами за тем, в ком еще не подозревал соперника, и увидел, что де Пуаян, стоя на пороге дома г-жи де Тильер, обернулся, в свою очередь, также следя за ним глазами. Несколько секунд оба они неподвижно разглядывали друг друга. Потом граф открыл дверь и больше не возвращался.
— Так и есть, — подумал Казаль… — Она его принимает, а меня нет… Но почему же, черт возьми, он обратил на меня такое внимание? В то время когда мы встречались у Полины де Корсьё, мы почти не говорили друг с другом, и я еле существовал для него, между тем как теперь… Не рассказала ли ему г-жа де Тильер, что запретила меня принимать? В каких они отношениях? Это — единственный из ее друзей, которого я не видел вместе с нею… Мы о нем говорили. При каких обстоятельствах?
Он вспомнил вдруг с поразительной ясностью одну маленькую сценку, тогда им незамеченную; но теперь встреча у этой двери внезапно воскресила ее в поле его внутреннего зрения с такой ясностью, как будто она произошла лишь вчера. Это было у г-жи де Кандаль. Жюльетта была весела и смеялась. Графиня случайно произнесла имя великого оратора монархиста, и Казаль начал его высмеивать. С обычным ему тактом он сейчас же почувствовал, что стал на неверный путь, так как обе подруги не подхватили ни одного его слова, а г-жа де Тильер вдруг нахмурила брови. Потом разговор перешел на другую тему, но молодая женщина вмешивалась уже в него только рассеянно. Казаль припомнил даже и это обстоятельство. Какое отношение связывало его настоящие мысли с тем впечатлением? Он не отдавал себе в том отчета, но образ де Пуаяна, стоявшего на пороге Жюльетты и сопровождавшего его, прогнанного, своим взглядом, преследовал его в течение всего остального дня, проведенного за игрой в мяч в Тюильри.
Встретив там молодого маркиза де Ла-Моль, такого же правого депутата, как и Генрих, он спросил его:
— Ты знаешь де Пуаяна, Норберт?
— Отлично. А зачем тебе это?
— Потому что на этих днях я должен с ним обедать. А что это за человек?
— Талант, но… — молодой человек изобразил своим отбойником бреющего вам лицо брадобрея… — высокой цены…
— А по отношениям к женщинам?
— Предопределенный… Ты знаешь, жена его бросила и живет во Флоренции с одним из Бонивэ, как мне говорили… Что же касается до него, то мы не знаем ни одной его любовницы… Хотя, прибавил он, смеясь, — я когда-то думал, что г-жа де Кандаль им очень интересуется… Она бывала на трибунах каждый раз, когда он должен был говорить с одной из своих подруг, которую иногда можно видеть в ее бенуаре в Опере, — такая блондинка, немного безжизненная, но с чудными глазами. Ты не догадываешься?
— Совершенно нет, — ответил Раймонд, узнав в этом быстром наброске г-жу де Тильер. — Но, — прибавил он, — мы должны были обедать вместе именно у г-жи де Кандаль. Только он куда-то уезжал, и все было отложено…
— Он вернулся дня четыре или пять тому назад, — продолжал де Ла-Моль, — мы участвуем с ним в одной комиссии… Он ездил в Дубс для агитации, которая ему не удалась…
Конец разговора этих двух артистов в искусстве поддавать мячи бы прерван началом новой партии, в которой Раймонд делал ошибку за ошибкой. Он снова попал на ясные следы мучительных подозрений и чувствовал, что у него не хватит силы не пойти по ним сейчас же. У всякого человека, в котором пробуждается подозрительность, является обостренность и напряженность чувств, аналогичные инстинкту выступившего в поход дикаря, от которого не ускользает ни помятая травка, ни сломанная ветка, ни зацепившаяся за куст нитка, ни смещенная с места поспешным шагом камушек. Как быстро шел он, руководствуясь ничтожными признаками, по фатальной дороге!
Встреча с г-жою де Нансэ заставила его усомниться в правдивости выдуманного Жюльеттой предлога. Это первое сомнение привело его ко второму — сомнению в таинственной клятве, — и он сомневался даже во всем характере той, в которую так верил в течение этих двух месяцев; наконец, взгляд, которым он обменялся с де Пуаяном, привлек его внимание на этого таинственного друга г-жи де Тильер. Узнать, что граф не имел никакой известной любовницы, что Жюльетта прилежно следила за речами знаменитого оратора и, наконец, что возвращение этого лица точно совпало с его изгнанием, — не было ли всего этого достаточно, чтобы вызвать второй кризис ревнивого воображения? Его опытность парижанина, так долго усыпляемая чарами новой любви, должна была усилить этот кризис. Он слишком много пожил и не мог не знать, что с женщинами все всегда возможно; а все-таки Жюльетта была ему настолько дорога, что такая мысль — «у нее есть любовник» — казалась ему чем-то чудовищным. И после разговора за игрой в мяч, лежа на одном из диванов маленькой гостиной, отравляясь, против своего обыкновения, табаком и тяготясь присутствием даже Герберта Боуна, он рассуждал сам с собой: