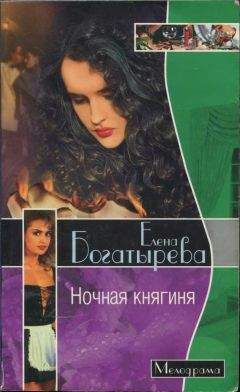Петр Иванович обомлел от такого подарка судьбы — «велели!». На следующий день он прислал Алисе охапку полевых цветов, из которых она оставила только колокольчики да ромашки, приказав Любаше остальную траву вынести вон. Через два дня возбужденный до предела Петр Иванович был допущен к болящей, встретившей его на диване в легком домашнем платье с распущенными волосами, украшенными венком из его цветиков. Дрожащими губами, изогнувшись, он прикоснулся к низко протянутой руке и, потеряв контроль над собой, бухнулся тут же на паркет, сжимая колени чаровницы и бормоча не по возрасту бурные признания. Алиса смеясь оттолкнула его, но ровно настолько, чтобы он не потерял надежды, а был бы спровоцирован на дальнейшие поползновения к ее ручкам и главное — ножкам. Глаза Алисы горели, решительность была холодной и расчетливой. Каждое ее слово в этот вечер падало на хорошо подготовленную почву. Старый ловелас сгорал от нетерпения, а девушка капризничала и предложила ему сначала покаяться — признаться во всех своих любовных связях.
Алиса приказала ему везти ее кататься, пообещав «стать хорошей девочкой», если он «искренне облегчит свою душу и расскажет ей все-все-все». Обезумевший от такой прямоты, отставной полковник, покуда их экипаж бессмысленно колесил по городу, сидел рядом с ночной княгиней словно на иголках, хрипло перечисляя свои любовные победы и расписывая свои мужские достоинства.
Отдав приказание кучеру к восьми часам подъехать к своему дому, Петр Иванович прервал свой рассказ, как раз упомянув имя Лизоньки Дунаевой (по мужу — Курбатской), и заискивающим тоном спросил:
— Не угодно ли размяться, моя прелесть?
Алиса поморщилась, подумала и протянула полковнику руку. Садик перед домом скрыл их от любопытных глаз, особняк (приданое жены) встретил приятной прохладой после жаркого вечера. В укромном уголке просторной бальной залы был накрыт столик — шампанское, лимоны, конфекты, — и по неловкой сервировке Алиса догадалась, что Петр Иванович обошелся без слуг и в доме, кроме них двоих, никого нет.
Говорить он мог уже с трудом, таращил на Алису наливающиеся от шампанского безумием глаза и сыпал пошлостями по поводу некоторых частей ее тела. Слушать было скучно, интереснее было другое.
— Так что там про Лизоньку… Как ее? Дунаеву, кажется.
— Ай, да что про нее говорить. Только пальцем поманил. — Петр Иванович подобрался к Алисе и поймал наконец ее руку. — Не в пример вам, дорогая моя. Ах, какие ручки…
Он погрузился в лобызания ее ручек, запыхтел, раскис. Изо рта вылетали тяжелое дыхание и хрипы, напоминающие предсмертные. «Животное, — равнодушно подумала Алиса. — Грязное и мерзкое. Это тебя и погубит».
Она проворно вырвала ручку и побежала по зале, лавируя между колонн. Однако полковник оказался проворнее, чем она полагала. Эти забавы были ему не внове, а желание начисто смело светские любезности.
— Попалась! Теперь — моя!
Алиса не помогала ему разделываться с крючками и булавочками в ее наряде. Она с удивлением прислушивалась к своему спокойному сердцу, четко и ритмично выбивавшему удары в обычном темпе. Раз-два-три, раз-два-три…
— Где вы с ней встретились?
Платье ее расстегнуто, и воротничок надорван с краю, но зашивать бесполезно. Прощай платье. Да и вряд ли она захочет когда-нибудь снова надеть его.
— Это был длинный коридор?
Разумеется, длинный. Неужели ее мать могла полюбить такого фанфарона и бабника?
— И что она сказала, когда вошла?..
А впрочем, не стоило труда и догадаться… Все было точно так же… Хотя нет. Для него — точно так же. А что чувствовала та безумная девица, которая произвела через семь с небольшим месяцев на свет Алису, да так и не стала никогда ей матерью? Ту же боль, отвращение? Вряд ли ее подогревал этот безумный азарт мести. Как это было?
Оставшись в тоненькой сорочке, Алиса вырвалась из липких объятий полковника и с хохотом побежала по залу. В смешном нижнем белье, без рубахи, с растопыренными руками, бегущий за ней полковник был похож на сатира. И все-таки как это было? Алиса резко остановилась и позволила унести себя в спальню, силясь представить себе, что пережила с этим человеком другая девушка двадцать лет тому назад.
Алиса ничего не чувствовала, как не чувствует человек, летящий с обрыва в холодную воду. Проворные руки полковника заскользили по ее телу, и тело, вопреки всему, против ее воли, потянулось ему навстречу. То, что происходило, было мучительной агонией. Реальность плавала перед ней в легкой дымке так и не утоленного желания…
Стук в дверь раздавался, очевидно, давно. Колокольчик трезвонил тихо, а вот стук разносился по всему дому. Надрывный женский голос гудел, не смолкая, где-то рядом с входной дверью под окнами.
Петр Иванович проворно отстранился от Алисы, бросил ей платье и, накинув наспех халат, побежал отпирать. Алиса принялась медленно одеваться, прислушиваясь к голосам, раздающимся из передней.
Женщина истерично голосила, пока не раздался звук пощечин, не забулькала вода, не вырвался протяжный вздох, приправленный приглушенными рыданиями.
— Ты непременно должен поехать туда, Петруша, — верещала теща. — Ее нужно привезти хоронить здесь. Чтобы было деточкам кому поклониться на могилке. Сироти-и-инушки… — Теща опять заревела.
Петр Иванович стоял перед ней бледный, с трясущимися руками и губами, пьяный от шампанского и Алисы, ничего не соображая.
— Да что тут… Кто сиротинушки? Что происходит? Куда ехать?
— Капа… Капа… Ты разве ничего не знаешь? — разом угомонилась теща. — Мы ведь часа два назад к тебе Глашку посылали. Я-то думала…
— Что Капа? — Петр Иванович схватил ее за плечи, думая о том, успела ли одеться Алиса. — При чем тут Капа?
Теща посмотрела на него со стула снизу вверх, заплакала и замахала руками.
— Капа разбилась. Насмерть. Пошла прогуляться по горным склонам одна, да не вернулась. Оступилась, видно… Нашли у подножия… Мертвую…
Петр Иванович опустился на пол и выпил налитую для тещи воду.
— Вот как… — повторял он как заведенный. — Вот как…
В эту минуту разнесся по дому раскатистый и тоненький, как колокольчик, женский смех…
После похорон жены Петра Ивановича терзал животный страх смерти. Он просыпался по ночам, вскрикивал, с ужасом смотрел в темные окна, и все ему казалось — она, Алиса… Однажды ему померещился бледный силуэт в садике у дома. Он выскочил, бродил как полоумный. Что-то напугало его в тот роковой день гораздо более, чем известие о смерти жены. Тот смех. Разве может человек, а тем более женщина, смеяться в такую минуту? Нервное? Как на похоронах Турбенса, о которых рассказывала Капитолина перед отъездом? А если не нервное? Тогда — что? И чем страшнее становилось, тем больше мучила жажда обладания этой неземной красавицей. Не выдержав сорока дней, чтобы снять траур, он явился без приглашения на вечер к сестре однополчанина — Эмилии Серской, где по слухам должна была присутствовать и Алиса.