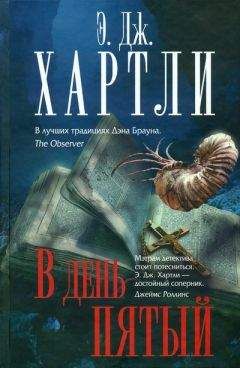Брюннер словно почувствовал присутствие кого-то лишнего в этой трагедии и повернул голову в сторону крайних уличных домов. И сразу встретился взглядом с Констаном. Оба долго и молча смотрели друг на друга.
Почему я смотрю ему в душу? Почему он вглядывается в меня? Почему я еще стою здесь? Почему до сих пор не там?
Кнут первым отвел глаза: он вновь затянулся, медленно повернув голову в сторону конюшни, а затем — вновь на Дюмеля. Лицо перечерчивала ядовитая ухмылка. Не снимая ее с губ, он приглашающим жестом указал рукой, пальцами которой сжимал почти выкуренную сигарету, в сторону конюшни.
Констан перевел взгляд на огненную ловушку для зверей и человека.
Конское ржание окруженных пламенем лошадей. Суетливая отчаянность и бессилие добровольца. Женский плач. И тишина улиц.
Затем снова посмотрел на Брюннера. Тот дернул бровями, опять поднося к губам сигарету.
Взгляд в сторону конюшен. Крики, вой.
Взгляд в сторону немцев. Кнут наблюдает и ждет. Сомневается в нем.
Секунду спустя глаза фашиста неожиданно распахнулись, а пальцы не донесли сигарету до рта. Он во все глаза смотрел на Констана, который дернулся с места и побежал прямо к конюшне.
Патрульные зашевелились, вопросительно глядя на Брюннера. Юнгер, узнавший в бегущем человеке ненавистного ему священника, стал снимать с плеча оружие.
— Стоп, стойте, не стреляйте в него! — прокричал Кнут, вытянув руки. — Пусть делает, что хочет. Не стрелять!
Явно раздосадованный Гельмут что-то неразборчиво проворчал и недовольно бросил окурок у ног.
Кнут медленно приподнялся на стременах и встал с седла, во все глаза глядя на Дюмеля, следя за каждым его быстрым, кажущимся уверенным движением.
Вот преподобный пробежал мимо кучки людей, коротко взглянув на них, но не остановившись. Значит, посчитал важнее спасение жизни, запертой внутри пожарища, чем спасение той, что трепыхается в теле молодого мужчины, раненого сына фермера? Из двух человеческих жизней, находящихся в опасности, окруженных запахом смерти, он, слуга Бога, заступник человека перед Всевышним, выбрал одну. Но для Бога жизнь каждого имеет равную ценность, не важно, богатый ты или бедный, старый или молодой, африканец или китаец. Может ли священник выбирать, кому помочь, кого спасти первым, тем самым обозначать чью-то жизнь выше по цене? Врач спасает того пациента, у кого есть более высокие шансы на выздоровление. Пожарный будет спасать человека из огня, а не из выгребной ямы. Одни профессионалы выбирают, кому оказывать помощь, соразмерно грозящей в данную минуту опасности. Но все люди, каждый человек, ходя под Богом, одинаково, в любую секунду находится в равных условиях с другими. Для священников в его пастве равны все. И ты, Дюмель, вопреки небу не уравнял жизнь, мимо которой сейчас пронесся, с той, что уже покинула тело. Знал бы ты, Констан, что труды твои будут напрасны: фермер мертв. Тебе некого спасать там, в конюшне. Живых людей там нет. А ты этого даже не знаешь.
Брюннер наблюдал, как Дюмель затормозил у опаленных, черных ворот конюшни, почти съеденных огнем, проваленных вовнутрь, но еще висящих на железных скобах. Видел, как Констан отступил назад, заслоняя рукой лицо от волны жара. Следил, как к нему подбежал парень из добровольческой пожарной команды и оба активно жестикулировали. Отсюда не было слышно, о чем они говорят. А спустя секунд десять Дюмель, заслонив голову руками, разбежался и влетел в ворота, проломив собой обгорелые деревяшки, оказавшись внутри конюшни. Парень-пожарный схватился за голову и метался в сторону хлева и кучки французов. Но всё же, со страшной досадой, кинулся к людям.
Кнут спрыгнул с лошади и сделал несколько шагов вперед. Его дыхание участилось. Он что, волновался за этого священника? Да ему нет до него никакого дела! Он просто хорошая мишень, чтоб отыграться, когда на душе неспокойно, не более. Чтобы попугать, когда самому страшно, и сделать жертвой другого, более смиренного, но равного тебе. Что же тогда, какая неведомая сила заставляет тянуться к конюшне, зовет для… чего: спасения? — ну уж нет!
Проходят мучительные две минуты. Брюннер ждет, сжав кулаки, не сводя глаз с ворот конюшни. Парень-доброволец, кинув топор у мотороллера, помогает одному мужчине поднять раненого с земли. Он с надеждой, ожиданием, страхом оглядывается на пламя и озирается вокруг, ища помощи, рассчитывая на смелость жителей коммуны. Но квартал будто замер, вымер в одночасье. Где захлопнуты ставни, где задернуты шторы и занавески. В отдельных окнах на высоких этажах заметны их слабые колыхания: людское любопытство проклевывается через скорлупу беспокойной тревоги, охватившей тело и разум. Хочется видеть, наблюдать, что происходит. Но страх за собственную жизнь сковывает по рукам и ногам. Французы, запертые в домиках и квартирах, слушают женские крики о помощи и плачут от собственного бессилия и слабости, трусости.
Пожарная команда, наверно, должна прибыть с минуту на минуту. Их нет довольно долго.
Пламя ползет по стенам конюшни, расширяется, увеличивается.
А затем внезапно прямо посередине с треском рушится крыша.
* * *
Руки ожгло огнем, словно сквозь одежду под кожу одновременно впились миллионы острейших игл. В лицо будто дохнул своим раскаленным жаром в тысячи градусов огромный дракон. Проломив доски ворот, Дюмель рухнул на пол конюшни вместе с обжигающими деревянными кусками, оказавшимися под ним. Он тут же вскочил, неосмотрительно, необдуманно опираясь о них же голыми ладонями, и вскричал, изо всех сил прижав их к рукавам. Качнувшись, Констан встал на ноги и, щурясь от едкого дыма, зарывшись носом в плечо пальто, заозирался в поисках человека.
Глаза страшно слезились. Их щипало от едкого, колкого дыма, что будто выжигал их из глазниц. Лоб ныл и горел: видимо, ударился о горячие доски. Едва Дюмель коротко вдохнул, чтобы позвать человека, тут же зашелся кашлем от горькой, тяжелой, свербившей на слизистой гари.
Со всех сторон давил жар, проникал под кожу, плавил тело. Со всех сторон выдыхал многоглавый дракон. Всё вокруг расцвечено огненно-красными букетами пламени и танцующими искрами. Всюду непроглядный, черный дым — плотный театральный занавес этого чудовищного спектакля.
Послышалось ржание. Прямо здесь, в конюшне. Констан часто моргал, сбивая пелену гари, сгоняя ее слезами и всё равно из-за них ничего не разбирая. Где лошади? Их фигуры не маячили прямо перед глазами. Должно быть, они в дальних загонах. Хотя по стуку копыт кажется, что совсем близко…
Устланный воспламеняющимися материалами пол занимался сотнями пламенными язычками. Слева, в окружении огненного кольца лежал крупный мешок, очертаниями напоминающий неудобно лежащего человека. Пригибаясь, Дюмель приблизился к нему. Да, это был человек, мужчина. Он лежал лицом вниз, надо перевернуть его и попытаться привести в чувство: быть может, он очнется и сам сможет покинуть эту ловушку. Ладони ныли и пульсировали. Констан посмотрел на них, отняв от рукавов. Разодранная, вмиг обгоревшая и покрывшаяся волдырями кожа местами уже слезла. Живого места почти не было: ладони блестели в огненном свечении крови. Она стекала по пальцам на руку, под пальто и на рукава. Кровавые пятна остались в том месте на одежде, куда Дюмель прижимал руки, чтобы унять боль.
Он ухватился за мужчину и с трудом перевернул его. Ладони пронзила новая острая боль. Констан взвыл, стиснув зубы. Посмотрел в лицо мужчины. И охнул.
Мертвые глаза смотрели в одну точку далеко за пределы реальности. Лицо навсегда застыло в покорном изумлении. В груди — пулевое отверстие, кровавое измазанное пятно на одежде. Почувствовав внезапную слабость, Дюмель сел, согнув колени и склонив к ним голову.
Подступил спазматический кашель. Сильнее заболела голова. Дышать становилось труднее. Кислорода в конюшне почти не осталось: воздух выжжен опасным газом. Треск дерева и сухой травы. Ржание. Волны жара. Буря дыма. Пульсация в окровавленных ладонях.
Человек убит. Этими немцами. Этим Юнгером.