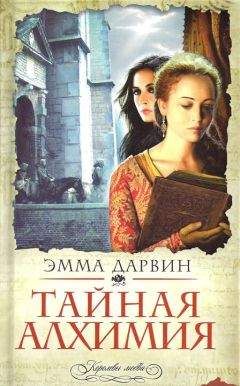— Что ж, кто знает? — отвечает вместо меня Лайонел. — Ведь это будет не только финансирование искусств, но и финансирование исторического наследия, а такой случай политикам легче понять. Почему бы нам не навести справки, не прощупать здесь и там, оценив интерес, даже заключив несколько условных договоров.
— Уна, ты историк, — возмущается Иззи, не обращая внимания на слова Лайонела. — Ты должна понимать, что все это будет ненастоящим! Это будет ненастоящим домом и мастерской. Просто пластик… подделка. Место для вечеринок тренеров в выходные дни. Искусство и ремесло как приманка для туристов.
— «Пресс» будет достаточно реальным.
— Но в Сан-Диего ожидают прибытия архива. Я сейчас должна быть дома, завершая его каталогизацию.
— Все это еще не подписано и не скреплено печатью, — замечает Лайонел, делая еще одну пометку.
— Что ж, мне жаль, — говорит Иззи, вставая. — Я знаю: необходимость продать Чантри — это ужас, но сделать из него фальшивую приманку для туристов будет еще хуже. Прошлое — вот настоящий Чантри. Я-то знаю: читала письма, каталогизировала оттиски и маленькие приглашения, рекламные листки, рождественские открытки. Это… Это ложь, я… я не буду иметь с ней ничего общего. Но ты меня удивляешь, дядя Гарет. — Иззи поворачивается и идет к фасаду дома, никто из нас не успевает ей ответить.
— Иза… Подожди! — окликает ее Лайонел, вставая.
Дядя Гарет откидывается на спинку шезлонга, глядя на фронтоны и трубы дома — дома с пустыми глазами. Марк встает и поднимает с травы пару секаторов и перчатки. К тому времени, как захлопывается дверь машины Иззи и слышится рычание двигателя, он уже подрезает изгородь на дальней стороне лужайки.
Лайонел шагает обратно по траве.
— Ты ее уговорил? — спрашиваю я, как только он подходит ближе.
— Думаю, не помешает предпринять дальнейшие шаги. Она не убеждена. Я тоже не убежден — пока. Мне нужно получить больше точных цифр.
— Конечно. Но как ты думаешь, мы должны хотя бы попытаться?
— О да. По крайней мере, до тех пор, пока нам не придется решиться на значительные затраты.
Дядя Гарет поворачивает голову и смотрит на Лайонела.
— Как ты считаешь, она передумает? По закону мы не можем далеко уйти, пока не получим согласие всех.
— Не знаю, — отвечает Лайонел. Поглядев в сад, на Марка, он понижает голос: — Она сказала… сказала: что бы ни предложил Марк, это вызовет ее подозрения. Он не заслуживает права голоса, после того как ушел, ему просто нужна работа.
— Мне нужно идти, — смотрит на часы Лайонел. — У меня за завтраком деловая встреча. Уна, Гарет, ничего не предпринимайте. Утром я сделаю несколько телефонных звонков и дам вам знать, каковы перспективы.
Лайонел уезжает, а Марк продолжает вскапывать то, что некогда было овощной грядкой, хотя свет уже меркнет.
Дядя Гарет и я убираем остатки пикника и уносим все в дом, спасая от росы. Это напоминает мне то, как тетя Элейн смотрела на велосипеды, одеяла и поношенную спортивную обувь, разбросанную по летней траве, когда я была ребенком.
— Надеюсь, с Марком все в порядке, — замечает дядя Гарет, включая торшер и выглядывая в окно. — Я понятия не имел… Ну, со стороны Лайонела было грубо предложить Марку оплату, но таков уж склад его ума. Но Иззи…
— Может быть… — начинаю я, но колеблюсь, потому что эта мысль только что пришла мне в голову. — Может быть, они о нем просто невысокого мнения — после того, как он ушел. И не видят, каков он на самом деле. В то время как я… и ты…
Гарет смотрит на меня очень пристально в неверном голубом свете.
— Знаю.
И внезапно я могу это произнести:
— Ты любил его, правда? Марка? Все время.
Дядя кивает, а потом, словно на него внезапно навалилась большая усталость, подходит к одному из кресел и садится. Мне кажется, что второе кресло стоит слишком далеко, поэтому я присаживаюсь на подлокотник кресла дяди Гарета.
Он пододвигается, чтобы дать мне больше места, но его плечо удобно прижимается к моему бедру.
— Да, я его любил. О… не в том смысле.
Я киваю, потому что понимаю, о чем он.
— Хотя я… я всегда был… гомосексуалистом. Ты знала об этом?
— Раньше не знала. Заподозрила позже, но не знала, как об этом спросить — для такого я не была достаточно искушенной. И кроме того… Ну, мне казалось — это твое дело.
Он молчит, а я думаю: не собирается ли он сказать, что никогда не давал себе в том воли. Для многих гомосексуалистов в те дни предложение вступить в связь было менее привлекательным, чем желание нормально провести остаток жизни. Так вообще перестаешь интересоваться чем-либо подобным.
Гарет ничего такого не говорит.
Но может, через соприкосновение наших тел он ощутит, что я понимаю. Я сижу и желаю — и неистово надеюсь, — чтобы он мог это ощутить.
— Я полюбил тебя с того момента, как увидел, — говорит он. — Твоя нянюшка держала тебя на руках… «Кормилица» — называла она себя. Когда… случилось несчастье, она просто забрала тебя к себе домой и продолжала за тобой ухаживать. Думаю, это она окрестила твоего медвежонка Смоуки. Как бы то ни было, вот так все и получилось. Это было легко. Но с Марком… Я работал с Марком. Мы работали вместе, и я любил его, и учил его, и хотел, чтобы он принял дела в Чантри, потому что был единственным, кто мог заставить здесь все работать как следует. И… и еще потому, что хотел, чтобы он получил в деле свою заслуженную долю.
По мне пробегает легкая дрожь — почти веселье, а может быть, надежда.
Я скольжу по ручке кресла, чтобы очутиться лицом к дяде Гарету.
— Ну, может быть, он ее и получит. Если мы сумеем уговорить остальных.
Дядя Гарет слегка улыбается, и мое чувство — что бы я ни чувствовала — становится сильней.
А потом я начинаю думать: «Откуда это веселье? И надежда?» Они слишком сильны, это не результат простого облегчения оттого, что Гарета и Чантри, возможно, еще удастся спасти. Это связано с тем, что спасителем будет Марк, с тем, что Марк наконец-то снова обретет здесь свое место.
Но я не хочу чувствовать этой дрожи. Как будто Адам, моя любовь, ускользает от меня.
— Может, мы уговорим остальных, — произносит Гарет, и я думаю, что он никогда не относился к людям, которых оставляет надежда. Он берет меня за руку. — Иногда я думаю, что бы сделал Кай, если бы был жив. Какой стала бы наша семья, если бы он был здесь. Он был таким уверенным… таким бескомпромиссным… во всем, что касалось искусства и ремесел и того, какой должна быть жизнь. Иногда Иззи очень его напоминает. Хотя внешне на него похожа ты. Особенно глаза, губы… Марк — хороший человек. Он всегда был хорошим человеком.