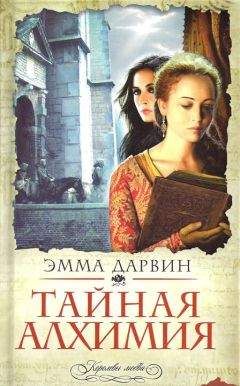Я услышала, как за моей спиной хнычет Бесс. Она устала и капризничала после долгого дня.
— Ну же, мисс Бесс, мы уже почти на месте, — сказала ее нянька. — Вон Уайтфриарс, и Блэкфриарс, и Уотергейт, и пристань Павла… Видите? Уайтфриарс, Блэкфриарс, Уотергейт, пристань Павла… Посмотрите, а вон и собор Святого Павла! Видите огромный шпиль?
Прилив устремлялся туда, куда его гнал ветер, гребцы боролись с прибывающей водой и ветром и случайно промахнулись мимо цели, так что пришлось дрейфовать обратно — к месту высадки у подножия замковых стен.
После ужина мы прослушали мессу в часовне, как личное «Те Deum»[82] и молитву о будущей помощи, тогда как месса в соборе Святого Павла этим утром была публичной.
Дневной шум внезапно стих. Эдуард и я преклонили колени так близко друг от друга, что его рука коснулась моей. Мной овладел новый страх. Что он подумает о морщинках, которые беспокойство проложило вокруг моих глаз, о моем исхудалом теле, ставшем дряблым после дней безделья, проведенных в святилище, о выдернутом зубе, об ожоге у меня на руке? О множестве маленьких, утомительных болячек на моем изношенном теле?
Духовник Эдуарда, возможно, и не знал — но знал Бог! — как много женщин в своем вкусе король находил среди пухлых фламандских девиц в Брюгге. И кому из чернобровых мужей при бургундском дворе он не наставил рога?
Я привыкла гнать от себя подобные мысли, бесполезно было взращивать их. А во время богослужения эти мысли становились даже греховными.
Я немного помолилась о прощении, впившись пальцами в ожог у себя на руке, потому что он все еще был ярко-красным и болел достаточно, чтобы послужить наказанием.
Потом подняла глаза к крестной перегородке и к гвоздям, которые удерживали окровавленное тело Христа, терпящего на резном позолоченном кресте предсмертную муку.
Нам с Эдуардом пришлось делить спальню, потому что дом его матери был переполнен знатью и его людьми. Страх, что Эдуард будет испытывать ко мне отвращение, продолжал расти во мне. Наконец за последней из моих женщин закрылась дверь, и мы с ним остались одни.
Полтора года — долгий срок для лица женщины, даже для моего, приведшего меня к короне, и еще более долгий срок для тела. Эдуард сидел рядом с очагом в рубашке и старом меховом плаще, который, казалось, ничуть не пострадал от лежания в сундуке. Король смотрел в красное сердце очага — все, что осталось от зажженного огня.
Я стояла посреди спальни в ночной рубашке. Внезапно меня охватил затмевающий рассудок страх. Словно ощутив мою дрожь, он поднял глаза.
— Госпожа?
— Я…
Но если я признаюсь ему, что боюсь, вдруг он заметит то, чего до сих пор не замечал?
— Вы снова должны меня учить? — спросил Эдуард, вставая. — По-моему, вы не изменились ни на волосок. И по-моему, я вас не забыл.
Он меня не забыл, это верно. И я обнаружила, что во время нашей разлуки не забыла, как доставлять ему удовольствие. Я знала, как уступать дюйм за дюймом его желанию, как велеть ему доставлять удовольствие мне, каждый его палец по очереди прикасался ко мне там, где я желала.
Бревно осело в очаге и вспыхнуло, покои наполнились светом.
Красно-золотые руки и ноги Эдуарда переплелись с моими серебряными, мы плыли вместе, скользили, летели — впереди, позади, между. Я снова была Мелузиной. Мелузина отсрочила исполнение приговора: не тайное купание[83] и одиночество, но дарованная ей свобода, моя свобода. Чары сняты, колесо Фортуны остановилось, мужчина и женщина соединились и возродились в золотых водах алхимии.
Солнце и Луна, — это всего лишь Красная и Белая земля, в которых природа с совершенством соединила Argent vive,[84] чистое, утонченное, белое и красное,[85] и таким образом создала из них Солнце и Луну.
Колсон. Philosophia Maturata
Энтони — Вечерня
Впереди воздух все еще густ от жара, поднимающегося над дорогой, хотя солнце уже стоит низко, высекая желтые алмазы из вод реки Эйр. Нагруженная сеном повозка, покачиваясь, пересекает мост — она идет нам навстречу, и мой эскорт оттягивается в сторону дороги, чтобы повозка могла освободить мост, прежде чем мы двинемся дальше.
Рядом стоит молельня, наполовину нависшая над водой: когда колокола начинают звонить, я припоминаю, что это часовня.
Я перехватываю взгляд Андерсона, тот качает головой. Как хороший командир, он знает, о чем думает его пленник, едва только мысль мелькает у того в голове. Я не могу так легко сдаться.
— Вы отказываете мне в возможности помолиться за свою душу?
— День катится к закату, мой господин. Когда мы доберемся до Понтефракта, у вас будет достаточно времени для молитв.
Но пока мы не можем пересечь мост, и эскорт позади нас колеблется.
— Для Бога никогда не бывает достаточно времени, — улыбаюсь я Андерсону. — Сэр Джон, мы рыцари, вы и я, люди, верящие, что на поклонении Богу держится Земля. И мы должны с уважением относиться к такому поклонению. Я взываю к вашему рыцарству. Даруйте мне последнюю молитву, которую я могу вознести в этой жизни, не будучи узником.
Но все-таки он колеблется.
— Я и не помышляю о бегстве, я только ищу спасения души. Даю вам честное слово.
Наконец Андерсон кивает.
Дверные петли часовни просят масла, а внутри пахнет речной водой не меньше, чем ладаном.
Андерсон и трое его людей окружают меня, другие остаются снаружи, их лошади и наши, поводья которых они держат, дремлют на солнце.
Четыре священника и четыре мальчика.
— Aperi, Domine, os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum… — нараспев произносят они.
«Господи, отверзи уста мои для благословения святому имени Твоему…»
Когда мы входим, один из мальчиков оборачивается, разинув рот в мирском изумлении. Его набожный товарищ толкает его, призывая к порядку, но при звоне шпор клирики тоже поворачивают головы.
— …munda quoque cor meum ab omnibus vanis… — нараспев продолжают они, голоса их колеблются от легкого страха.
Андерсон поднимает обе руки так, чтобы клирики их видели, потом крестится, а я преклоняю колени.
— …perversis et alienis cogitationibus.
Два человека остаются стоять у двери, и пение становится ровнее.
«Омой также сердце мое от всех пустых, дурных и иных помышлений».
Я шагаю вперед один и чувствую, как душа моя оказывается в плену этих слов, чтобы тоже произносить их. Я преклоняю колено, опустив голову, прижав ладонь к груди.