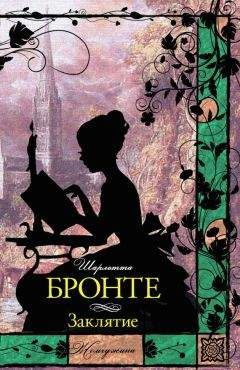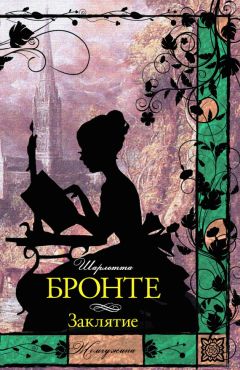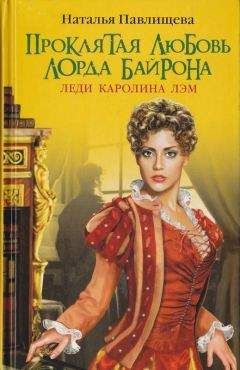Наступило молчание.
– Кто больше? – вопросил аукционист, подняв молоток.
По-прежнему молчание.
– Три фунта, – повторил мистер Хоббинс. – Неужто никто не предложит больше трех фунтов за индийскую датуру древовидную, несравненной красоты дерево, вывезенное из Дели, великолепный свадебный дар лорда Доуро супруге?
Молчание. Что этим респектабельным господам в плащах и шляпах до Марианниных цветов?
– Кто больше? Кто больше? Кто больше? Продано. Растение ваше, мистер Притимен.
Молоток упал, и мистер Притимен забрал добычу.
– Она так любила это деревце, – произнес быстрый женский голос рядом со мной. – Его колокольчик лежал на ее подушке, когда она умирала, и листьями потом усыпали гроб.
Я обернулся к говорящей – миловидной молодой женщине с двумя или тремя детьми. То была миссис Шервуд. Я обратился к ней, но она меня не услышала – ее внимание было целиком захвачено происходящим. Не могу описать то сосредоточенное и ревнивое выражение, с каким она наблюдала, как разоряют дом, которому они с мужем так преданно служили. Слезы то и дело наворачивались ей на глаза, но она перебарывала чувства, закусив губу и сведя брови, укачивая младенца на руках и с жаром говоря красивому мальчугану у своих ног:
– Артур, запомни на всю жизнь, как распродавали виллу. Ты ведь помнишь джентльмена, который приходил к нам по воскресеньям и слушал, как ты читаешь из Библии и поешь гимны? Они разорили его дом и травят его самого, как твой отец травит собаками оленя.
– Кто, мама? – спросил мальчик.
– Шотландцы. Ненавидь шотландцев, Артур, сколько будешь жить.
Сегодняшние торги заканчивались. Остался единственный лот – картина, как я мог заключить по золоченой раме, выглядывающей из дерюги, в которую она была завернута. Мистер Хоббинс развернул ее. Новые владельцы уже забрали свои приобретения, так что вокруг него как раз освободилось место. Толпа сгрудилась у самого стола. Мистер Хоббинс прислонил картину к плакучему кипарису, чьи ветви ниспадали на нее траурной пеленой. Затем отошел на шаг, склонил голову набок и молча воззрился на полотно – как и я, как и все остальные. Знай, Заморна, что губы твоей тени в тот миг словно шептали: «Ихавод!»[90] Портрет лорда Доуро был написан лет пять назад. Я помню, как Делиль делал для него наброски: помню место, время, все сопутствующие обстоятельства. Это происходило в Морнингтоне вечером самого длинного дня в году. Матушка была уже при смерти. По случаю такого теплого и ясного вечера ее вынесли в гостиную; она лежала на диване в белом креповом платье, исхудалые щеки розовели от жара болезни и нежного отблеска алых подушек. Герцогиня позвала сына посидеть с ней. Она глядела на него и любовалась чертами, в которых ее собственное былое очарование дивным образом сочеталось с суровой римской красотой Веллингтона. Матушка вспоминала свои детские годы в Грасмире, когда и не помышляла стать матерью этого величавого юноши, когда была юной и робкой воспитанницей его отца. Еще она думала о быстро приближающемся часе, который давно маячил впереди, – часе, что внезапно и, возможно, навечно разлучит ее с тем, кого она любила и холила от младенчества до зрелости. Часто Август надрывал ей сердце своими преступлениями и безумствами, много раз она в слезах заступалась за него перед строгим отцом, но все пережитое улетучилось из слабеющей памяти; лишь глубокая нежность стояла в кротких темных глазах, которые смотрели так, словно хотят унести в могилу его образ.
Матушка хотела сменить позу, но от слабости не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Доуро взял ее на руки – он легко поднимал матушку, ведь она, несмотря на высокий рост, от болезни сделалась почти невесомой, – и развернул лицом к заходящему солнцу. Слезы одна за другой покатились из-под черных ресниц – так тронула герцогиню забота обожаемого сына.
«Но какое отношение это имеет к картине?» Никакого, читатель, просто атмосфера, окружавшая в те дни матушку, словно запечатлелась на портрете. Я смотрел на юношеское лицо с печальными темными глазами, на длинные густые кудри, на точеные черты, такие чистые и беспорочные, на гордый лоб, чья ширина и явственная тень раздумья исключали всякую мысль о скудости ума, на свежие губы, которых, мнилось, никогда не осквернит грубое слово. Я вспоминал прочитанное два часа назад и думал, как примирить два столь противоречивых образа? Фигура на портрете словно готова была ожить. Доуро стоял на балконе под библиотечным окном; казалось, в этом книгочее пробуждается яростная заря страсти, которая, я помню, горела тогда в каждом взгляде оригинала. Прекрасные глаза не сверкали – ибо веки были полуопущены, – но из темной глубины лучезарно и грустно взирали на поругание его храма. Этот взгляд не внушил мне жалости или любви, но заставил меня долго смотреть на картину. Косой дождь яростно хлестал по нежным заморским растениям на лужайке, сбивал лепестки с апельсиновых деревьев. Из дома не слышалось человеческих голосов, только ветер, гуляя по разграбленным комнатам, оплакивал их опустошение.
Мистер Хоббинс вновь затянул свою песню:
– А теперь, дамы и господа, чрезвычайно ценная картина всемирно известной кисти Джона Мартина Данди – портрет, как вы сами видите, бывшего владельца этой завидной усадьбы.
(По толпе прокатился стон.)
– Да, да, – продолжал он, – сюжет, безусловно, плох, десятая копия глупого лица. Однако исполнение превосходно, а осел, нарисованный с большим сходством, почитается меж знатоками за великое произведение искусства; сколько предложите, господа, за этот блистательный портрет величайшего осла всех времен?
Ответом ему были только смех и улюлюканье.
– Ваш последний лот не продастся! – крикнул кто-то.
– Подарите-ка его черту! Ему понравится почти как собственное отражение! – посоветовал другой.
– Дураки всегда любят, когда художники им льстят! – подал голос третий. – И даже если портрет когда-то верно передавал сходство, оригинал с тех пор сильно погрубел.
Странная дрожь пробила меня при этих словах, когда я взглянул на печальное недвижное лицо, так не похожее на портрет грубого остолопа. Контраст между прошлым и настоящим был ярок, как день, и черен, как полночь. Предвидь герцогиня Веллингтон этот час, в какой бы тоске она умерла; однако она почитала своего сына за солнце, которому должна поклоняться вся Африка и весь мир. Картину в тот день так и не продали, но позже я узнал, что ее купил трактирщик; он велел намалевать лорду Доуро дурацкий колпак на голове, пинту пива в одной руке и трубку в другой, а портрет повесил над входом в качестве вывески.
Есть что-то очень созвучное моему настроению в нынешней атмосфере Витрополя, в ожидании каких-то грандиозных неведомых событий. Грядет великая перемена, но мы не знаем, в чем она будет состоять. Вся общественная жизнь пронизана возбуждением – мрачный праздник, который все соблюдают, как будто вознамерились [конец строки утерян] будет ли им прок. Для одинокого джентльмена вроде меня это довольно приятно. Мне не надо заботиться о жене и детях, у меня нет доли в коммерции, земельных владений и капитала, чтобы за них тревожиться, я смеюсь, глядя на обеспокоенные лица воротил, которым завтрашний день, возможно, сулит банкротство. Все мое имущество можно унести с собой: два-три костюма, несколько сорочек, полдюжины манишек, полдюжины батистовых носовых платков, брусок-другой виндзорского мыла, флакон масла для волос, щетка, гребенка и некоторые другие туалетные принадлежности. Несколько соверенов наличными, которые у меня есть, легко спрятать под одеждой, а случись худшее, что помешает мне протянуть руку за подаянием? Я не обременен гордостью; мне все равно, быть чистильщиком сапог в веселой компании слуг или наследником Веллингтонии. Меня не тяготят ни домашние узы, ни религиозные принципы, ни политические убеждения. Семейные радости и родственное чувство мне чужды, секта, к которой я принадлежу, скатилась так низко, что дальше падать уже некуда, моим политическим легким вольготнее всего будет дышаться в порывах ураганного ветра, поднятого революцией. Шельма не включит меня в проскрипционные списки, а если и включит, где полиция и приставы, что сумеют меня схватить? где тюрьма, что меня удержит? петля, что меня удавит? Если мостовые Витрополя сделаются скользкими от крови, легконогий Чарлз Тауншенд на них не оступится; если каждый житель города будет шпионить за соседом и доносить на него властям, Чарлз Тауншенд превзойдет их всех вероломством, хитростью, кровожадным двуличием. Если все дамы Африки превратятся в мадам Ролан и Нинон де Ланкло[91], Чарлзу Тауншенду все равно отыщется местечко в их салонах и будуарах. Гражданка Джулия с красным шарфиком на шее будет так же мило подзывать меня к своему дивану, как леди Торнтон с алой эгреткой и рубиновым крестиком, а если пожатие ее пальчиков сделается чуть более крепким, а в темных западных глазах вместо ирландской меланхолии вспыхнет неистовое бешенство – что с того? Если речь утратит естественную мелодичность, мягкую напевность с едва различимой неточностью выговора и зазвучит диссонансной парижской скороговоркой, какая мне печаль? Мир меняется, а она все так же ослепительно прекрасна. Читатель знает, каким выдался понедельник, и мне известно, что вчера сердце Нортенгерленда учащенно билось в груди – каждый удар этого неукротимого и озлобленного сосуда жизни отдавался по всему Витрополю, по его пригородам и окрестностям. Город, раздираемый внешним и внутренним раздором, проснулся от набата, как позже весь мир проснется от гласа, зовущего мертвых на Суд, и все в этой сумятице знали, что схватка идет не только в столице, что на востоке, под Эдвардстоном, Заморна и те, кого это имя по-прежнему зовет за собой, кто помнит, как сияло помраченное ныне Солнце, – что Заморна сошелся с противником в решающем бою. Даже за собственными тревогами горожане не забывали спрашивать, есть ли вести из Эдвардстона. Некоторые конституционалисты не утратили сочувствия к бунтарю, подобно тому как снисходительный отец жалеет блудного сына, однако большинство витропольцев желали ему скорейшего поражения. Вчера их чаяния исполнились: пришла весть, что ангрийское войско разбито, ангрийский народ [конец строки утрачен], а король Ангрии [конец строки утрачен].