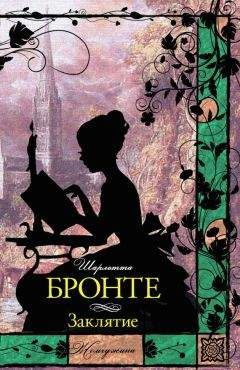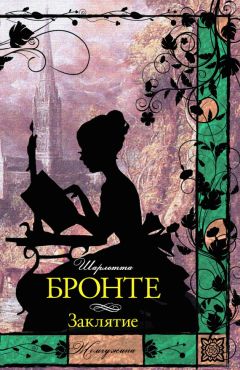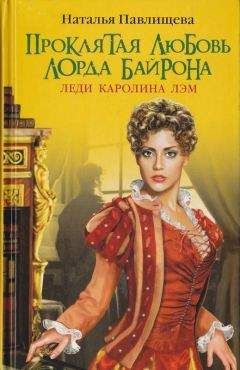Возвращение Заморны
[92]
Читатель, я должен тебе сказать, что мое сердце сейчас разобьется.
«Из-за чего?» – спросишь ты. Потому что я на мели. До вчерашнего вечера я не верил слухам о национальном банкротстве. Вчера же я вернулся к полуночи из Эбенезеровской часовни в самом благодушном настроении и, войдя в гостиную, застал мистера Элрингтона сидящим у камина с двенадцатью дюймами праха во рту (прах – символ бренности, брение – другое слово для глины, а из глины делают трубки).
– Кто служил? – полюбопытствовал Сурена с лаконичностью, отличающей его во время курения.
– Брат Чепмен из Чизелхерста, ревностный соработник Божий, как и Томас Вулдсворт, который усердствовал в молитве четыре мучительных часа кряду и так преуспел, что кафедра не устояла – развалилась. Когда мы уходили, как раз вызвали плотника, чтобы ее чинить.
– Многие ли братья обрели духовную свободу?
– Несколько. Еще до конца молитвы восемь женщин и трое мужчин принялись кружиться в танце посреди часовни, а к концу проповеди галерея уподобилась небесам – по крайней мере театральным, где обитают боги. Я немного посадил горло, вопя во свидетельство наших трудов. Кстати, Сурена, как ваша простуда, которая всегда разыгрывается по воскресеньям к вечеру и мешает вам посетить дом Господень?
– Все еще плохо, – ответил мистер Элрингтон, кашляя и поправляя на горле фланелевый платок. – Впрочем, надеюсь, что провел вечер не без пользы.
И он указал глазами на раскрытую перед ним Библию.
Я кивнул, впрочем, устремив взор не на Священное Писание, а на выглядывающий из-под него уголок прозаической конторской книги.
– Вижу, Сурена, вы вопрошали свое сердце, – заметил я, – подбивали счеты между собой и дьяволом.
– Да, – отвечал он. – Исследовать свою совесть – самое похвальное для христианина занятие.
С полчаса мы молча курили, как вдруг мне пришла в голову мысль, побудившая меня встать и сделать шаг в сторону комнаты. Очевидно, та же мысль пришла в голову Сурене, вернее, она была там весь день, и теперь, когда я обнаружил намерение прошмыгнуть к себе, он с неуместной прямотой высказал ее вслух.
– Сегодня у вас расчетный день, – объявил Сурена.
– Расчетный день? – переспросил я, глядя на него в притворном недоумении.
– Да, сэр. Минуло ровно полгода с тех пор, как вы последний раз вносили плату за свою уютную светлую комнату, стол, дрова и стирку.
– Мне кажется, вы ошибаетесь, – ответил я, ибо признать его правоту было не в моих интересах.
– Все точно, – возразил Элрингтон. – Могу показать вам свои записи.
Я знал, что у него и впрямь все записано, а значит, отпираться бессмысленно. Но что было делать? Мой капитал составляли шесть пенсов серебром и четыре с половиной пенса медью. Последнюю сумму я собирался отнести в табачную лавочку по соседству, куда тоже задолжал, а за квартиру с меня причиталось больше двадцати пяти фунтов.
После недолгой паузы я высокомерно ответил, что сейчас у меня при себе только векселя на крупные суммы, а в нынешнее неспокойное время мой банкир, боюсь, не сможет их быстро оплатить. Где-то завалялись несколько гиней на карманные расходы, но я думал их завтра отдать прачке – она, бедняжка, и впрямь заслужила вознаграждение за фургон моего белья в последние две недели – очень утомительное дело крахмалить тонкие батистовые сорочки и плоить бесчисленные жабо.
С новичком такое, возможно, и прошло бы, но Сурена знал меня как облупленного.
– Мистер Тауншенд, – сказал он, – вы помните, что, решив заняться коммерцией, я торжественно поклялся перед Богом никогда не вводить ближнего во искушение, веря ему в долг, хоть бы даже речь шла о полупенсовике на полчаса. Совесть не позволяет мне нарушить обет, а уж тем более в день Господень. Сэр, если у вас нет денег, либо немедленно отправляйтесь в тюрьму, либо садитесь и пишите книгу. Я сам отнесу рукопись издателю и получу деньги, а до тех пор оставлю себе в залог ваши часы, сюртук и жилет.
У меня была совершенно особая личная причина возражать против такой резолюции. Я смотрел на Сурену, осклабясь, и, боюсь, причину моих затруднений можно было ясно прочесть на моем лице. Несмотря на проповеднический тон прежних моих речей, колебался я недолго, секунды две-три – скорее чтобы подразнить Сурену, нежели от смущения.
Расстегнув сюртук, тщательно застегнутый до черного шейного платка, я снял сперва его, а затем и жилет. Что до рубашки – да простит меня щепетильный читатель – под жилетом была белая кожа и ни намека на белье. А теперь разреши перед тобой похвалиться – ведь я так редко это делаю.
Как ты видишь, я оказался в положении, для джентльмена крайне щекотливом, из которого светский человек должен выйти с большим тактом и ловкостью. Сконфузился ли я? Покраснел? Начал ли запинаться? Сделал ли попытку сгладить неловкость смехом? Нет, нет. Чарлз Тауншенд не из таких. Ситуация, в которой почти всякий испытал бы мучительный стыд, доставила мне истинное наслаждение. Меня огорчало одно: что нет других зрителей.
С тихой улыбкой, означавшей, что я полностью осознаю трудность моей позиции и абсолютно к ней равнодушен, я протянул одежду домохозяину и сказал беспечно:
– Мы, рыцари пера, престранные создания. Следующий раз, надо полагать, я забуду надушить платки туалетной водой.
Знай, читатель, слова эти были произнесены без намерения обмануть – нет, главный мастерский штрих состоял в том, что, говоря, я легонько подмигнул: мол, я иронизирую и мы прекрасно друг друга понимаем.
На следующий день я сел за стол и без рубашки, жилета и сюртука, накинув на плечи одеяло вместо общепринятого наряда, принялся писать по указке Сурены Элрингтона, торговца полотняным товаром, чтобы расплатиться за квартиру. Я не считаю, что пал низко. Мне случалось попадать в куда худший переплет. Это неожиданное происшествие в моей жизни, и все равно, несмотря ни на что, я и впрямь, воистину, подлинно сын короля. Да, это так.
Я изрядно замерз, и тощая старая экономка как раз принесла мне чашку горячего бульона. Прихлебывая его, я обдумаю и распределю материал для первой главы. Итак, переверни страницу, читатель, и приступим.
Я убежден, что лучшая политика для автора – написать первые страницы в ярком и разнообразном ключе, и держался бы этого правила в нынешнем сочинении чуть дольше, однако все вокруг настолько удручает, что я невольно впадаю в тональность, которой пронизано все общество, все разговоры, вся природа.
О читатель, что за странная неопределенность нависла надо всем! Не правда ли, ты заинтригован, какую картину ветреный Тауншенд первой представит твоему взору? Я держу тебя за руку и веду по длинной галерее. Все картины завешены. Давай представим, что галерея – в старой баронской усадьбе. Давай вообразим ее тихим дремотным днем. Давай считать, что обитатели дома в отъезде – возможно, их осталось совсем мало, род почти пресекся. В усадьбе живут лишь двое или трое старых слуг.