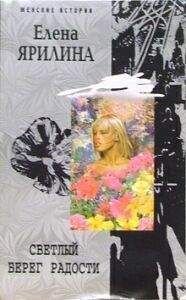— Да, — подтвердил он, — я верю тебе и сознаю, что поступил неосторожно, говоря с тобою так, как говорил в начале нашего разговора… Теперь, когда тебе все известно, я не могу вернуть сказанного… Будь мужественна, дорогая, и больше ни слова о дуэли! Ты лучше кого бы то ни было понимаешь, что в делах чести нет места рассуждениям! Но мне пора уходить. Я пришел к тебе с тем, чтобы просить тебя принять меня сегодня в 9 часов вечера. Я хотел сказать «до свиданья», если будет на то воля Божья. Ты успокоишься к тому времени, и мы побеседуем с тобой без тех фраз, которые заставляют нас обоих так напрасно страдать.
Она ничего ему не ответила, когда он уходил! Да что могла она сделать против неизбежности этого требования света — требования так же неумолимого, как любое физическое явление: падение дома или землетрясение. Раймонд нанес Генриху оскорбление, и последний был вправе требовать удовлетворения. Дуэль неизбежна. Но бедное сердце Жюльетты, вдвойне сраженное этой неизбежностью, не примирялось с нею, и она дрожала при одной мучительной мысли о завтрашней встрече. Граф давно уже вышел, а она все продолжала сидеть, обхвативши руками колени со склоненной вперед головою, с неподвижно застывшим взором; а в ее мозгу вихрем проносились картины, представлявшие ей де Пуаяна и Раймонда в нескольких шагах один от другого, с группою секундантов возле них, сигнал и спущенные курки пистолетов, — кажется, Генрих упоминал об этом оружии?.. И вслед за выстрелами один из них лежит сраженный… Де Пуаяна она представляла себе распростертым на земле; глаза этого друга, которого она любила в течение десяти лет, были обращены к ней, и в их взгляде ока читала себе страшный укор: «В моей смерти виновна ты». Она же никогда не могла переносить и малейшей грусти в его глазах!.. Она гнала от себя это ужасное видение, как дурное предзнаменование, гнала всеми силами души; а на смену ему выступало тотчас другое: Казаль лежал смертельно раненый! Казаль, одно присутствие которого заставляло ее трепетать от радости и страха! Благородное лицо его, так прельстившее ее своей мужественной красотой, представлялось ей бледным, с глазами, тоже обращенными к ней, но не с нежным укором, а тем невыносимым выражением презрения, мысль о котором терзала ее эти последние дни! И как объяснить себе это несчастное раздвоение чувства? Даже в этот страшный час, когда приближалась трагическая развязка, Жюльетта не знала, не могла знать, по ком из них она прольет более горькие слезы, если дуэль окончится смертью одного из двух. Но, нет! Она не допустит ее, хотя бы для этого ей пришлось на месте дуэли броситься к их ногам на глазах секундантов; она не остановится ни перед чем! Безумная! Она не знала даже ни часа, ни места дуэли, она знала только, что через двадцать четыре часа, а, может быть, и раньше, завершится последнее действие драмы, к которой привела ее преступная слабость.
Когда де Пуаян заговорил с твердостью мужчины, не допускающего в делах чести никаких комбинаций, она познала все свое бессилие, не найдя, что возразить ему. Что делать! Господи! Что делать?.. Обратиться к секундантам? Они обязаны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого ужасного поединка. Но кто были секунданты? Она знала фамилии де Кандаля и лорда Герберта. Что же она им скажет, когда придет к ним. Во имя чего станет она умолять их, друзей обманутого ею человека? Конечно, для них, если они слышали всю ее историю из уст Казаля, она была кокеткой, самой коварной, самой низкой, допустившей его ухаживать за ней в отсутствие графа с тем, чтобы его выпроводить по возвращении этого последнего!
Как убедить их в ее полнейшей искренности, в этих невольных уступках и особенно в ненавистных колебаниях ее искреннего, но двойственного сердца, которое трепетало одинаково от опасности, грозившей каждому из них? И она снова впадала как бы в тревожный бред. Ей представлялась простреленная грудь, лоб с засевшей в нем пулей и льющаяся кровь; и с этой кровью, будь она кровью Генриха или другого, вся ее жизнь, казалось, уходила в невыразимом страдании, — в страдании до того остром, что лучше умереть сейчас же, только бы никогда, никогда не видеть эту кровь! Раздался бой часов. Жюльетта машинально подняла голову при этом звуке, показавшемся ей как-то необычайно торжественным среди царившей в комнате тишины! Она посмотрела на стрелку каминных часов, маятник которых отмеривал ей, минута за минутой, секунда за секундой, остающееся у нее время на то, чтобы не дать ужасному видению стать непоправимой действительностью. Стрелка часовая стояла на четырех. Прошел час со времени ухода де Пуаяна, а она сидела здесь, ничего не предпринимая, в то время как Габриелла поджидала ее у себя, готовая содействовать ей в деле примирения. Она быстро поднялась при мысли о потерянном времени, и без того так скупо ей отсчитанном. Она провела руками по глазам; и ее полное изнеможение сменилось лихорадочной энергией отчаяния. Она в одну минуту позвонила свою горничную, переменила домашнее платье на другое, и для ускорения дела велела позвать извозчика, чтобы не ждать, пока запрягут ее лошадей, и направилась на улицу Tilsitt. Множество планов вертелось в ее разгоряченной голове, и в них на долю графини должна была выпасть главная роль. Но они все рушились от препятствия очень простого.
Долго прождав г-жу де Тильер, в свою очередь, снедаемая нетерпением, г-жа де Кандаль поехала к ней. Кареты их, вероятно, где-нибудь разминулись, так как швейцар уверял Жюльетту, что не прошло и десяти минут, как уехала г-жа де Кандаль.
— Господи! — подумала г-жа де Тильер, садясь снова на извозчика. — «Только бы ей догадаться подождать моего возвращения!» — Так поступить, конечно, было бы всего проще. Но в том-то и беда, что в самые критические минуты нашей личной жизни, когда так необходима точность и своевременность действий, самое простое не приходит нам в голову. Вместо того, чтобы дождаться своего друга, г-жа де Кандаль, терзаемая тревогой, вздумала съездить в клуб улицы Рояля, вызвать мужа, если застанет его там, и узнать от него хоть что-нибудь. Бесполезность ее поездки была очевидна, так как она не согласовалась ни с часом, когда де Кандаль бывал там, ни с его привычками. А тем временем г-жа де Тильер вернулась от нее к себе и узнала, что Габриелла действительно была у нее, и, не заставши, уехала, ничего не поручая передать ей. При этой новой неудаче г-жа де Тильер совсем растерялась и вторично направилась на улицу Tilsitt, где точно так же не нашла ту, которую искала. Видя, что все ее поездки взад и вперед ни к чему не приводят, она почувствовала, как ею все сильнее и сильнее овладевала мысль, казавшаяся ей последним спасением, и за которую она ухватилась со всею страстностью отчаяния, для которого не существует никаких преград, никаких рассуждений! Ведь причиной дуэли Генриха с Казалем было оскорбление, нанесенное последним своему сопернику, которого он назвал в глаза трусом. Но если удастся добиться от Казаля, чтобы он принес извинение и взял назад это слово, тогда повод к дуэли исчезнет сам собой. Но как получить его согласие на извинение? Через кого? А почему бы не попытаться самой? Не поехать ли ей к нему сейчас же, показать ему, до чего она страдает, и умолять сделать все, все возможное, чтобы поединок не состоялся. Если де Пуаян не мог этого сделать, как оскорбленный, то Казаль может, и если любит он, то даже обязан это сделать… А что он ее любит, это несомненно. Не из любви ли к ней он дошел до такой крайности! Да, вот где спасение! И как она раньше не подумала об этом? Когда она, посмотрев который час, с ужасом увидела, что потеряла еще сорок минут из тех немногих часов, которые оставались в ее распоряжении, она спрашивала себя, как ей поспеть к семи часам домой к обеду с матерью, вслед за которым в девять должен был прийти Генрих, когда теперь уже пять часов! Потеряв голову от страха, она как во сне постучала своей ручкой извозчику, бывшему уже на полдороге к ее дому, и дала ему адрес того, который, казалось ей, держал в своих руках всю ее судьбу. Как во сне сошла она у подъезда его особняка на улице Lisbonne, позвонила, спросила, дома ли г-н Казаль, и только тогда поняла, как безумен ее поступок, когда она очутилась в незнакомой комнате и к ней вернулось сознание! Совсем растерянная, она смотрела на стены этой комнаты, которую ей суждено было впоследствии так часто вызывать в памяти, смотрела на тонкие тона их обоев, на металлический блеск развешанного на них оружия, на блики в картинах и на весь нарядный беспорядок обстановки.