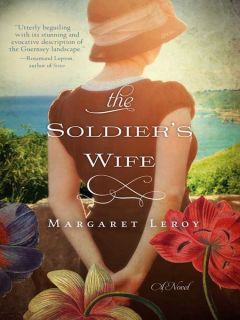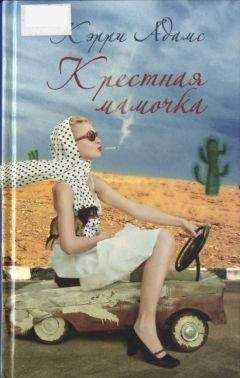На это мне нечего ответить.
— Я не верю в Бога, но злюсь на него, — говорит Кирилл. Он слегка улыбается. — В этом нет никакого смысла, да, Вивьен?
Веду его через сад. Падает несколько пожелтевших листьев. Деревья шумят так же, как море, как шелест гальки. Эти звуки, как говорила мне Энжи, предвещают дождь.
В тени живой изгороди я беру Кирилла за руку.
— Кирилл, я должна вам кое-что сказать. Не хотела говорить это при Милли. Но с завтрашнего дня вам будет небезопасно приходить сюда. — Меня это ранит. Ранит то, что я должна говорить ему это… понимая, что это для него значит, приходить к нам домой. — Один из немцев, живущих по соседству, возвращается из отпуска. Он иногда заходит к нам.
Мне интересно, ужаснет ли это Кирилла. То, что немец приходит в мой дом. Спросит ли он меня о чем-нибудь. Сомневается ли он во мне. Он просто кивает.
— Мне очень жаль, — добавляю я. — Но я принесу вам еду в амбар, как делали Милли с Симоном. Если вас там не будет, я оставлю ее под трактором.
— Спасибо, Вивьен, — говорит он.
— Берегите себя.
— И вы, Вивьен. — Он немного наклоняется. — Я вам очень благодарен.
Он отворачивается и уходит от меня в темнеющий сад. Синюшные тучи опускаются на землю. Скоро начнется дождь.
Суббота. Я просыпаюсь счастливая. Солнечное, радостное чувство охватывает меня еще до того, как я осознаю, почему так счастлива. Потом я вспоминаю: сегодня Гюнтер возвращается из отпуска. Но вместе с пониманием приходит опасение, приглушая мое яркое настроение, как дыхание туманит поверхность зеркала.
Что он сделает, если узнает, что я подкармливаю Кирилла? Выдаст ли он нас: Кирилла, и Милли, и меня? Как он поступит? Я говорю себе: «Конечно, он нас не выдаст. Он хороший человек. Я знаю, какой он добрый…» Но в моей голове звучит голос Бланш: «Как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным?»
Выходя во двор, я бросаю взгляд на большой эркер Ле Винерс в надежде хоть мельком увидеть Гюнтера. Время от времени я поднимаюсь к себе в спальню и оглядываю их палисадник. Яркий и сверкающий мир, умытый ночным штормом, наполнен сиянием и надеждой. Но мне не удается его увидеть.
Задолго до комендантского часа я отношу еду в сарай Питера Махи. В моей корзине хлеб, окорок, яблоки, завернутые в кухонное полотенце. Кирилл уже ждет. Он забирает еду.
— Спасибо вам, Вивьен. Большое спасибо.
Я не жду, пока он поест: слишком рискованно оставаться здесь. Что, если кто-нибудь меня увидит и задумается о том, куда я иду… или даже последует за мной? Но оставляя Кирилла, я чувствую укол грусти.
Я слушаю, как Милли молится перед сном, и подтыкаю ее одеяло. Она поднимает руки и настойчиво тянет мою голову к себе. Прижимая губы к моему уху и щекоча дыханием мою кожу, она шепчет:
— Кирилл не пришел.
— Нет, милая. Но я его покормила. Отнесла еду ему в сарай. Теперь мне придется делать так.
Яркий, как ноготки, свет лампы заливает Милли. Когда я наклоняюсь к ней, моя тень закрывает ее лицо.
— Он больше не может приходить сюда?
— Да, думаю, не может. Теперь ему опасно здесь находиться. И я не хочу, чтобы ты ходила со мной в сарай, на случай, если кто-то увидит.
Я быстро отстраняюсь, испугавшись, что она спросит еще что-нибудь.
— Но мне очень хочется пойти с тобой. — Она сердится. — Он и мой друг тоже. Он стал моим другом раньше, мамочка.
— Знаю. Но мы должны быть осторожны, ты же понимаешь. Это может быть опасно, Милли. Ты должна делать, как я говорю.
Она хмурится. Раздумывает: стоит ли возражать, уступлю ли я.
— В любом случае твоя простуда прошла, — говорю я. — Ты снова сможешь играть с Симоном после школы.
В глубине ее глаз маленькой рыбкой мелькает сомнение. Чувствую, как моя кровь течет быстрее. Жду, что она спросит: «Но почему, мамочка? Почему Кирилл не может прийти сюда?»
— Мне бы хотелось, чтобы он мог приходить к нам на кухню, — говорит она.
— Знаю, милая. Мне тоже. Но мы же не хотим подвергать его опасности, — отвечаю я.
Она принимает это объяснение. Потом зевает широко, как кошка, показательно потягивается и устраивается на подушках, накрываясь одеялом до подбородка.
— Смотри, мамочка, заботься о нем хорошенько, — говорит она.
* * *
В десять часов раздается тихий стук в дверь, заставляя мое сердце забиться сильнее.
Открываю дверь. В лунном свете выделяется темный силуэт Гюнтера.
Он принес бутылку бренди для нас. Иду на кухню за бокалами, он — следом за мной. Неожиданно, но в его присутствии я чувствую себя неловко. Как будто мы забыли, как быть вместе, как будто нам надо заново учить мелодию, которую мы когда-то знали.
— Как все прошло в Берлине? — спрашиваю я.
Это обычный вопрос, который задают, когда кто-то уезжал. Но для нас этот вопрос сложный, опасный. Собственное тело кажется мне неуклюжим, слишком большим для моей кухни.
— В Берлине все как обычно. Но Кельн и Любек подверглись ужасным бомбардировкам. Так много уничтожено. Не хочу об этом говорить, — отвечает он.
Не знаю, что и думать. Разве не этого я должна желать? Чтобы немецкие города были уничтожены. Но я вижу страдание на его лице и не чувствую ликования — только растерянность и тоску. Я молчу.
— Мы живем в ужасном мире, Вивьен, — говорит он.
— Да.
По крайней мере с этим я согласна.
Спрашиваю о его жене, Илзе.
— Она такая же, как всегда, — отвечает он. — Всегда хорошо следит за домом. Хотя, конечно, жизнь стала труднее.
Размышляю о том, как странно — спрашивать такое. Пока он не уехал в отпуск, наша любовь казалась такой естественной. Как воздух, как неотъемлемая часть моей жизни. А теперь появился какой-то сдвиг, надлом.
— Ты виделся с Германом?
При имени сына лицо Гюнтера смягчается, но он качает головой:
— Нет. Он в Африке с Роммелем.
В его голосе слышится страх. Он отворачивается от меня, пряча свои чувства, и его взгляд падает на цветы, которые мне подарил Кирилл. Они уже почти завяли, лепестки сморщились, как обрывки оберточной бумаги, но это такой драгоценный дар, что я никак не могу заставить себя их выбросить.
— Кто-то подарил тебе цветы? — спрашивает Гюнтер несколько напряженным голосом.
Я понимаю, что он думает, будто у меня появился другой поклонник.
— Ах, это. Всего лишь Милли, — говорю я с непринужденным смешком.
Но получается плохо: смешок звучит натянуто. Меня охватывает дрожь, по коже бежит мороз. В короткий миг паники я пугаюсь, что он прочтет мой секрет по лицу.