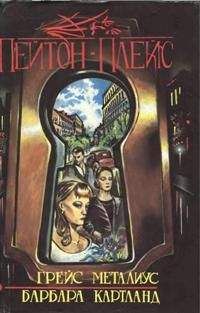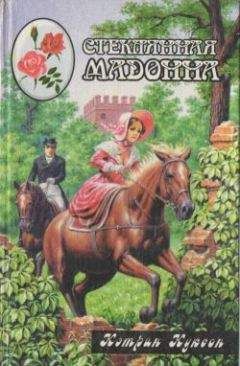Томми засмеялся.
— Удивительно удачно, что удалось вас обоих свести.
Квистус недоверчиво усмехнулся.
— Пожалуй, вы все это нарочно подстроили?
— О, нет, — вскочил Томми. — Ради Бога, не думайте этого! Сейчас нет художника с большим, чем у нее, талантом, — это не мое единичное мнение и мне бы хотелось, чтобы она вас написала. Кроме того, она совсем не так плоха. Нет, нет.
— Я пошутил, мой милый мальчик, — сказал Квистус, тронутый его горячностью. — Я великолепно знаю, что Клементина на самом деле большой художник.
— Во всяком случае, — прищурился Томми, — вам придется немного потерпеть.
— Боюсь, что так, — жалобно сознался Квистус. — Но как-нибудь обойдется…
Ему пришлось потерпеть… Этот спокойный, вежливый, мирный джентльмен обладал особой способностью раздражать Клементину. Он был ученым, но это не мешало ему быть, по ее мнению, сумасшедшим, а Клементина не могла их равнодушно переносить.
Портрет был ее отчаянием. Этот мужчина не имел никакого характера! Его большие голубые глаза ничего не выражали! Она боялась, заявляла она, перенести на полотно физиономию врожденного идиота. Ее выводило из себя его дилетантское отношение к жизни, которого она, как труженица, не могла допустить. По профессии он был стряпчим, главой старой фирмы «Квистус и сын», но ради страсти к антропологии передал все дело компаньону.
— Он вас обчистит, как липку, — пророчила Клементина.
Квистус улыбнулся.
— Я, как и отец, ему всецело доверяю.
— По-моему, каждый доверяющий, безразлично, мужчине или женщине — не вполне владеет своими умственными способностями.
— Я верил всем всю жизнь. Я счастлив, что меня до сих пор еще никто не обманывал.
— Вздор, — объявила Клементина. — Да, вот, Томми что-то рассказывал мне про вашего друга-немца.
Это было больное место. Несколько дней тому назад к нему явился добродушный, бедно одетый, честный немец и предложил ему кремневые предметы, найденные, по его словам, в долине Везера, около Гамельна. Квистус нашел их настолько любопытными и заслуживающими внимания, что дал ему вдвое против запрошенной цены. Сейчас же был вызван друг-палеонтолог, и немедленно они приступили к исследованию сокровищ. Они оказались бессовестной подделкой.
— Я рассказал это Томми по секрету, — с достоинством возразил он. — Он не имел права передать.
— Что показывает… — Клементина сделала паузу, кладя мазок, — что показывает, что даже Томми нельзя верить.
Другой раз дело коснулось знаменитого интервью Вандермера.
— Вы знакомы с моим другом Вандермером? — осведомился он.
Она покачала головой.
— Никогда не слыхала такого имени.
Он объяснил.
— Вандермер — журналист, он интервьюировал вас и затем вы вместе завтракали в ресторане.
Клементина не могла вспомнить, но в конце концов ее лицо прояснилось.
— Бог мой, это не полуоборванный ли господин с лисьей физиономией и пальцами, вылезавшими из сапог?
— К сожалению, портрет хотя не лестный, но похожий, — признался Квистус.
— У него был такой голодный вид, и он оказался на самом деле таким голодным, что я свела его в колбасную, и пока он начинялся ветчиной и мясом, я начиняла его материалом. Но мой завтрак с ним в ресторане — наглая ложь!
— Бедняга, — вздохнул Квистус, — он создает себе в фантазии то, чего ему не достает в жизни. Это заложено в человеческом характере.
Квистус улыбнулся одной из своих ласковейших улыбок.
— Я нахожу его даже в вас, Клементина!
Из предыдущего легко заключить, что сеансы в студии были на этот раз не совсем обычны. Слишком противоположны были их характеры. Его шокировала ее эксцентричность, она возмущалась его неприспособленностью. Оба терпели друг друга из уважения к прошлому, но оба расставались друг с другом со вздохом облегчения. Образованный, воспитанный человек, при ней он молчал, как мумия. Это ее еще больше злило. Она хотела, чтобы он говорил, оживился, чтобы передать это на полотне. И ради этого сама говорила вздор.
— Жить в прошлом, без малейшего внимания на настоящее, то же самое, что жить всю жизнь в темной спальне. Это достойно моли, но не мужчины!
— Но ведь вы также живете прошлым? — указал он на висевшую на стену старинную картину.
— Это учителя, — объяснила Клементина. — Каким образом, скажите, могла бы я написать вам портрет, если бы не знала Веласкеса? Не говоря уже об эстетической стороне… Для вас же прошлое только предмет любопытства.
— Верно, верно, — кротко согласился он. — Дамский костюм бронзового века не заинтересовал бы Ворта. Для меня же любопытен доисторический костюм женщины.
— Я считаю это ненормальным, — объяснила Клементина, — вы должны стыдиться.
Этим закончился разговор.
Тем не менее, несмотря на ее полукомическое отчаяние, портрет подвигался вперед. Во всяком случае, она схватила его интеллектуальность и удаленность от жизни. Бессознательно она положила на его лицо печать ума, которая ускользала от нее при первом осмотре. Художник работает внутренним зрением, что всегда бывает, когда он создает большую вещь. Большая вещь, не та, перед которой художник говорит: «Как далеко, как это далеко от моей мечты…»
Это обман. Велико лишь то произведение, перед которым его творец говорит: «Неужели это я создал?» Потому что он сам не знает, как он творил. Человек, работающий над произведением искусства, повинуется не разуму, а чувству; ум имеет дело с формулами, а формулы, как результат анализа, не имеют места в торжествующем синтезе искусства.
Удивленная Клементина смотрела на портрет и, как творец, видела, что он хорош.
— Я никогда бы этого не подумала, — сказала она.
— Чего? — спросил Квистус.
— Что я могла все это вытянуть из вас, — был ответ.
Мы слыхали многое о человеке из старого завета по имени Иов. Мы знаем, что он был добродетелен, честен и богобоязнен: и тем не менее известно, что на него посыпались несчастье за несчастьем, которые кончились для него потерей всей семьи и страшной проказой. Я не говорю, что на доктора Квистуса посыпались столько же несчастий, как на Иова, но всегда на каждого человека, как Пелион на Оссу, может обрушиться несчастье.
Историю этих горестей можно передать только вкратце, потому что понадобилась бы целая хроника, чтобы передать все сложившееся и усложненное сцепление обстоятельств.
Квистус играл во всем только пассивную и отрицательную роль. Как и у Иова, гром ударил с ясного неба. Его нравственность была безукоризненна, положение обеспечено и счастье совершенно патриархально. Он никому в жизни не сделал зла и не имел никаких оснований бояться дьявола. Десятую, а может быть и большую часть своего состояния он отдавал на дела благотворительности, и не только не разглашал этого как фарисей, но и самому себе в этом не сознавался, по той простой причине, что, не подсчитывая своих доходов, не давал себе никакого отчета в расходах.