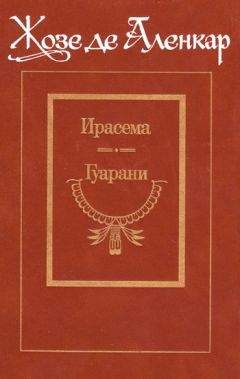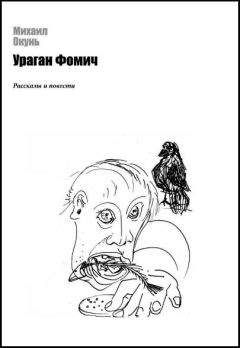Между тем, если время дневное, мужья-простаки или прикидывающиеся таковыми, скорее всего, отсыпаются после обеда, а если время вечернее, когда улицы и площади полнятся толпами, пахнущими луком и лавандой, и из распахнутых настежь церковных дверей доносится бормотанье молитв, если время вечернее, мужьям становится спокойнее на душе, ждать осталось недолго, вот стукнула входная дверь, послышались шаги на лестнице, хозяйка беседует фамильярно, еще бы, со служанкой или с черной рабыней, если брала ее с собою, сквозь щели пробиваются пляшущие огоньки светильника или канделябра, муж делает вид, что проснулся, жена делает вид, что разбудила его, и если спросит он, Ну как, то нам уже известно, что она ответит, мол, умирает от усталости, ступни как чужие, коленки как не свои, но зато душе утешение, и назовет таинственную цифру, В семи церквах побывала, и говорит это с такой страстью, что либо набожность ее велика, либо велика провинность.
Но таких отдушин нет в распоряжении у королев, особливо если они уже в тягости, да еще от своего законного повелителя, каковой возвратится к ним лишь по истечении девяти месяцев, правило это принято также среди простонародья, хотя и нарушается, не без того. У доны Марии-Аны есть и добавочные причины беречься, тут и маниакальная набожность, привитая ей австрийским ее воспитанием, и причастность к уловке францисканцев, таким образом королева показывает или дает понять, что дитя, развивающееся у ней во чреве, в равной мере обязано жизнью как королю Португалии, так и самому Господу Богу в обмен на монастырь.
Дона Мария-Ана очень рано собралась ко сну, помолилась перед тем, как лечь, в сопровождении бормочущего хора прислуживающих ей дам, а затем, уже под своим пуховиком, снова принимается за молитвы, молится до бесконечности, дамы начинают клевать носом, но борются со сном, как положено мудрым, хоть они и не девы,[16] а затем ретируются, в опочивальне бодрствуют лишь огонек ночника и дама, которая проведет ночь на низеньком ложе, она не преминет заснуть, пусть снится ей все что угодно, неважно, что привидится ей под сомкнутыми веками, нас занимают трепетные мысли, еще волнующие на пороге сна дону Марию-Ану, в Страстной четверг она отправится в церковь Пресвятой Богородицы, там увидит Святую Плащаницу, монахини сначала развернут ее перед королевой, а уж потом покажут верующим, на Плащанице явственно видны будут отпечатки тела Христова, это единственная и подлинная Святая Плащаница, какая существует в христианском мире, мои почтенные дамы и почтенные сеньоры, все прочие тоже единственные и истинные, а то бы их не показывали в один и тот же час в столь разных местах Земли, но поскольку эта находится в Португалии, она из всех самая подлинная и воистину единственная. Когда еще в преддверии сна доне Марии-Ане представляется, что она склонилась к святейшей ткани, ей не удается узнать, облобызала ли она ее со всей набожностью, ибо она вдруг засыпает, и вот она уже в карете, возвращается во дворец, уже стоит темная ночь, при ней ее лейб-гвардейцы, и вдруг появляется всадник, он возвращается с охоты, при нем четверо слуг на мулах, пушная и пернатая дичь свисает в плетенках с луки седла, всадник поворачивает к карете, в руках у него ружье, конь высекает копытами искры из камней, из ноздрей у него клубится пар, и когда всадник, прорвавшись сквозь охрану и с трудом сдерживая коня, оказывается у самой кареты, свет факелов озаряет ему лицо, это инфант дон Франсиско, знать бы, из каких тайников сна пришел он и почему будет еще приходить так часто. Конь испугался, понятное дело, колеса кареты и копыта лошадей так грохочут по камням мостовой, но, сравнивая этот сон с предыдущими, королева замечает, что с каждым разом инфант оказывается все ближе к ней, знать бы, чего хочет он да и она чего хочет.
В пору Великого поста одни грезят, другие бодрствуют. Миновала Пасха, она разбудила весь люд, но женщин спровадила в сумрак комнат и в мир бабьих хлопот. По домам стало больше мужей-рогоносцев, но они вполне способны разгневаться, случись грех в неурочную пору. И поскольку мы добрались до весны, а где весна, там и птицы, пора нам послушать канареек, которые, обезумев от любви, поют в своих клетках, разубранных цветами и лентами и висящих в церквах, а священники с амвонов тем временем проповедуют и толкуют о вещах, кои почитают самыми священными. Ныне четверг Вознесения, возносятся к сводам церкви птичьи песни, а молитвы к небосводу то ли вознесутся, то ли нет, если не пособят птицы молитвам, надежды мало, а может, лучше было бы, если бы все мы смолкли.
Этот молодчик, что удалым обличьем, привычкой поигрывать шпагой и несуразной одежонкой смахивает, хотя и бос, на солдата, не кто иной, как Балтазар Матеус, по прозванию Семь Солнц. Его из армии уволили за негодностью к службе, после того как ампутировали ему по самое запястье левую руку, в которой засела пуля, было это под Херес-де-лос-Кавальерос,[17] когда в октябре прошлого года перешли мы испанскую границу, предприняв большое наступление с армией в одиннадцать тысяч человек, каковое закончилось потерей двухсот наших, а уцелевшие бежали врассыпную под напором конницы, посланной испанцами из Бадахоса. Стянулись мы всей ратью в Оливансу, разграбив перед тем Баркарроту, да только нам оттого мало вышло радости, потому как нет смысла отшагать десять миль в одну сторону, чтобы потом пробежать столько же в другую, оставив на поле такое множество убитых да руку Балтазара Семь Солнц. Ему еще повезло, а может, ладанка помогла, которую он на груди носит, не началась гангрена в солдатской ране и жилы не порвались, когда жгут ему закручивали, и хирург попался искусный, не стал пилить кость пилою, просто вылущил из сустава. Наложили на культю заживляющие травы, и такие крепкие были мышцы у Балтазара Семь Солнц, что через два месяца он выздоровел.
Поскольку от жалованья у него немного осталось, просил он милостыню в Эворе, чтобы подкопить денег для уплаты кузнецу и шорнику, раз уж захотелось ему обзавестись крюком, который заменил бы руку. Так и прошла зима, половину сбора он откладывал, половину другой половины приберегал на дорогу, а прочее уходило на еду и вино. Уж весна пришла, когда шорник, с которым он рассчитывался понемногу, в рассрочку, с последней выплатой вручил ему крюк, а еще клинок, тоже заказанный Балтазаром Семь Солнц, которому взбрело в голову обзавестись двумя левыми руками. Шорные работы выполнены были отменно, железные части прочно выкованы и закалены, и ремешки прилажены к ним на славу, и были они разной длины, одни закреплялись над локтем, а другие на плече, чтобы крепче держались. Странствие свое предпринял Семь Солнц в ту пору, когда стало известно, что войска, расквартированные в Бейре, не желают покидать квартиры и двигаться на выручку Алентежо, потому что в той провинции было до крайности голодно, еще хуже, чем в других, где тоже народ голодал. Солдаты ходили оборванные и разутые, грабили землепашцев, отказывались идти в бой и дезертировали, кто перебегал к неприятелю, кто к себе на родину, прячась в глухих местах вдали от дорог, добывая еду грабежом, насилуя женщин, если те попадались им в одиночку, одним словом, взимали долг с тех, кто ничего им не был должен и терпел столь же безысходные муки. Семь Солнц брел, искалеченный, в Лиссабон проезжей дорогою, ему тоже задолжали левую его руку, часть ее осталась в Испании, другая часть в Португалии, и всему причиной война, которая должна была решить, кто воссядет на трон Испании, то ли австриец Карл, то ли француз Филипп,[18] но уж точно не португалец, какой от португальцев прок, что от двуруких, что от одноруких, что от двуногих, что от одноногих, единственное, на что годятся, оставлять на поле боя руки-ноги, а то и жизнь, так на то солдат и есть солдат, спать на земле либо спать в земле, чего ему еще. Вышел Семь Солнц из Эворы, миновал Монтемор, в попутчики не нашлось ему, как говорится, ни монашка, ни чертушки, а что руки дырявые, так у него всего одна и осталась.