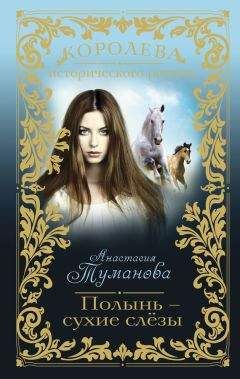Танька на ходу, не останавливаясь, наклонилась и сорвала целую пригоршню кислой заячьей капустки, росшей у тропинки. Сунув всю горсть в рот, она невнятно пожаловалась:
– Уж нутро всё от этой травы корчится, спасу нет… Хлеба-то доброго года четыре не видели, всё с этим сеном пополам да с мякиной… Вот за Ефимку Силина выйду – первым делом нажрусь по горлышко… а потом ещё раз… и ещё… и пусть свекровь опосля хоть убивает! Скорей бы уж! На сытое брюхо никакой кулак не страшон – ни свекрухин, ни мужнин!
– Так ты за Ефимку замуж хочешь, аль за харчи его? – без улыбки поддела её Устинья. Танька насупилась, исподлобья взглянула на подругу, снова тихо вздохнула. Пожав плечами, созналась:
– Знаешь, Устька, может, оно и грешно… Но я б за пень горелый, не только за Ефимку, пошла б – лишь бы в брюхо пихать кажный день. А Ефимка – он что ж… Не хужей других. Понятно дело – не Антип, тебе-то больше моего свезло… Но, может, с годами перебесится, хороший мужик станет. Только б скорее замуж-то! И жить с тобой в одном дому будем, сестрёнками!
– Ду-урёха… – по-мужски присвистнула сквозь зубы Устя. – Коль так и дале пойдёт – век мы с тобой в девках просидим!
Никакой печали в её голосе не слышалось. Некоторое время девушки шли не разговаривая. Танька дожевала заячью капустку, проглотила, сморщившись. Уныло попросила:
– Устька, ты бы мне хоть травки какой присоветовала, чтоб пузо от мякины-то не крутило, а?.. Устька! Эй! – Танька недоумённо обернулась. Подруги не было.
– Свят-свят-свят… Устька, где ты? – испуганным шёпотом позвала Танька. В ответ – тишина, лишь чуть покачиваются стебли белой кашки. Танька проводила глазами болтающую вереницу подруг, уже входящих в лес, неуверенно пошла было за ними, но, подумав, повернулась и припустила назад.
Казалось, Устя исчезла бесследно: на цветущем лугу не было ни души. Танька, углядев в траве чуть заметную тропку, подобрала подол сарафана и побежала по ней, перепрыгивая кротовьи холмики и морщась, когда босая нога наступала на колючий стебель чертополоха. Добежав до середины луга, Танька растерянно остановилась, огляделась.
– Устя! Где ты, дура? – уже совсем испуганно позвала она, – и вдруг увидела в нескольких шагах, в зарослях иван-чая, русые детские головки. Радостно ахнув, Танька ринулась по траве напрямик – к ним.
Детей, сидевших кружком в примятой траве, было человек двенадцать – осунувшихся от недоедания, с запавшими щеками, бледными, грустными личиками. Двое мальчишек лет по шести старательно жевали заячью капусту, худенькая девочка в рваной рубашонке до пят закусывала «орешками» кукушьей травки и ими же кормила из ладони крошечного братишку. Чуть поодаль ползали на коленях Устиньины сестрёнки, собирая в подолы рубашек щавель. Когда из травы появилась растрёпанная, взмокшая от бега Танька, они в замешательстве переглянулись. Танька, впрочем, этого не заметила.
– Эй, ребятки, а Устька-то где? Не с вами разве? – едва переводя дыхание от бега, спросила она. Таньке никто не ответил.
– Где Устька, окаянные? – строго, почуяв неладное, снова спросила она. Детские рожицы помрачнели.
– Шла бы ты, ей-богу, Танька, – ломающимся суровым баском ответил ей двенадцатилетний Васька, ожесточённо выдирая из свалявшихся соломенных волос комок репейника. – Барско дело ждать не станет, ягоды за тебя никто не наберёт. Вона как от девок-то отстала!
– Не тебе, сопля, меня учить! – рассвирепела Танька, решительно усаживаясь в траву. – Шагу не сделаю, идолята, покуда не скажете, куда Устьку засунули!
Васька тяжело, по-взрослому, вздохнул. Тоскливо посмотрел куда-то в сторону, где паслось возле берёзовой рощицы стадо коров. Удивлённая Танька проследила за его взглядом.
Сначала она ничего не увидела, да и полуденное солнце слепило глаза. Но чуть погодя Таньке стало заметно, что высокая трава возле чёрных и рябых коровьих спин чуть заметно колышется.
– Устька там? Да что она, дурная, делает-то?
Дети хранили молчание. Оскорблённая Танька вновь уселась на пятки, подпёрла голову кулаками и приготовилась ждать.
Вскоре зашелестела трава: кто-то бежал сквозь неё, торопливо раздвигая упругие стебли. Детская ватажка разом оживилась, негромко, радостно загомонила. С шумом, взметнув облако пыльцы, раскинулись в стороны розовые метёлки болиголова, – и на полянку выскочила Устинья. Танька с изумлением смотрела на подругу.
Устя была без сарафана, в длинной, рваной, латаной-перелатаной рубахе. Пряди распущенных волос лежали на груди и на спине. К вспотевшему лицу прилипли зелёные семечки конского щавеля. В руке у Усти была деревянная бадейка.
– Ну-ко, живо, мелюзга! – придушенным голосом скомандовала она… и только сейчас увидела сидящую в траве Таньку. Брови её изумлённо дрогнули и сразу гневно сошлись на переносье.
– Ты зачем здесь? – резко спросила она, ставя бадейку в траву. – Следила, подлая?!
– Я – нет… Господь с тобой… – испугалась Танька. – Свят-Христос, ты на кого похожа-то, Устька? Чисто русалка вырядилась! Что это вы тут творите?
Устинья, казалось, колебалась: перебросив волосы на плечо, она то сплетала, то расплетала тяжёлые пряди, исподлобья взглядывая на подругу. Дети молча ждали, и глаза их неотрывно смотрели на бадейку у ног Устиньи. Вытянув шею, Танька увидела, что в ней – молоко, только что выдоенное, ещё покрытое кружевной пенкой.
– Ну-ка, живо, недоедки, – хриплым шёпотом велела Устя, и первыми к ней бросилась девочка с братишкой на руках. Оба по очереди приникли к бадейке, причём девочка сделала три долгих глотка и отстранилась с болезненным, мучительным выражением на личике, а малыш пил долго, жадно, как щенок, не отрываясь от края бадьи даже тогда, когда послышались возмущённые голоса:
– Ну будет уже, Фадейка, хватит, в череду же надо…
Устинья молча, жёстко отстранила малыша от бадейки. Тот всхлипнул было, но сестра торопливо зажала ему рот. Следом подошли и остальные, каждый аккуратно делая по десять глотков: было очевидно, что это количество отмерено, рассчитано и обсуждено давным-давно. Устинья внимательно следила за каждым глотком, лицо её было напряжено и сурово.
Бадейка уже опустела, когда Устинья, вся встрепенувшись, обвела полянку тревожным взглядом и тихо вскрикнула:
– Васька! Где ты, дух нечистый?!
– Туточки… – раздался суровый голос, и сумрачная, покрытая веснушками и рябинами физиономия подростка высунулась из зарослей иван-чая. Устя всплеснула руками:
– Да что ж ты!.. Проклажается себе в кусту! Ведь кончилось уж всё!
– Да мне и ни к чему, Устинья Даниловна. Большой уж, поди, – сквозь зубы ответил Васька. Устя издала невнятный стон сквозь зубы, обняла мальчишку, прижавшись лицом к костлявой, выпиравшей рёбрами из-под полуистлевшей рубахи груди. Васька, помедлив, отстранился. Хрипло сказал: