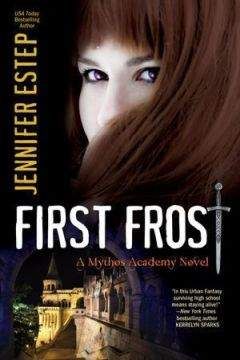Карл оцепенел.
— Не указывай мне, что делать! — едва слышно пробормотал он, а затем уже громко проговорил: — Пусть при этом дворе более не будет разговоров о еретиках! Все мы прежде всего французы!
И добавил, обращаясь к Колиньи, — в тот самый миг, когда я уже решила, что он меня ослушается:
— Господин мой, мы прощаем все, в чем ты провинился перед нами, и верим, что впредь будешь служить нам верно. А потому мы даем тебе место в нашем Совете, где ты станешь советником нашим в делах государства.
— Ваше величество, вы оказываете мне честь, которой я недостоин. — Колиньи поклонился.
Карл улыбнулся и решительным шагом двинулся в пиршественный зал. За ним последовали придворные.
— Я прибыл сюда, чтобы увидеть, как будет восстановлено мое доброе имя. — Колиньи взглянул на меня. — Такого я не ожидал.
Только что я стала свидетельницей, как мой сын совершил первый свой самостоятельный поступок. Пытаясь осознать все его последствия, я внезапно ощутила недоверие к этому человеку, который, казалось, сеял раздоры всюду, где ни появлялся.
— Я ведь сказала когда-то, что введу тебя в Совет, — наконец проговорила я.
— Да, сказала. — Он помолчал. — Я должен попросить у тебя прощения.
Я прямо взглянула ему в глаза — уже не те, что знала когда-то.
— Нет, не нужно извинений. Не стоит ворошить прошлое.
— Стоит, — возразил он. — Только глядя в лицо прошлому, можно обрести мир.
Я не знала, какой мир он имеет в виду, да и не желала знать. Я совершила ошибку. Сейчас мне хотелось только одного — чтобы он покинул двор и навсегда исчез из моей жизни. Память о том, как мы были близки, обо всем, что было между нами, навалилась сейчас невыносимой тяжестью.
— Скорбь о жене лишила меня силы духа, — продолжал он. — Я был потерян, испуган… и злоупотребил твоим доверием. Я не хотел причинить тебе боль. Если ты не хочешь, чтобы я здесь остался, — я не останусь.
— Так ты по-прежнему считаешь, что это было мое решение? — Я не могла поверить своим ушам. — Мое? После всего, что было, ты смеешь взваливать это бремя на меня? Кажется, ты забыл, с чего все началось и почему разрушилось! Не я взялась за оружие и развязала войну, не я решилась…
Я осеклась на полуслове. По глазам Колиньи, по тому, как окаменело его лицо, было видно: он знает, что я хотела сказать.
— Мне лучше уйти, — пробормотал он, но я остановила его, не дав завершить поклон:
— Нет.
Колиньи замер.
— Нет, — повторила я. — Мой сын попросил тебя служить нам. Так решил он сам, и я не стану оспаривать его решение. — Я вздернула подбородок. — Ты просил о прощении. Я тебя прощаю.
— Тогда, — отозвался он, — я сделаю все, что в моих силах, дабы оказаться достойным твоего прощения.
С этими словами Колиньи подал мне руку. Сдерживая слезы, отчетливо сознавая, что былая близость между нами сгинула навек, я оперлась на его руку и позволила сопроводить меня в пиршественный зал.
Есть немало способов обмануть собственное сердце.
Я дожила до сорока семи лет, познала разочарование и перенесла куда более сокрушительные утраты; я решительно не желала скорбеть о том, что и не могло сбыться. Я тешилась иллюзией, хранила ее в себе, как нечто ценное, но теперь аккуратно собрала ее черепки и выбросила прочь. Постепенно, покуда зима сменялась весной, я свыкалась с тем, что мы с Колиньи более ничего не значим друг для друга, кроме того, что я мать короля, а он королевский советник. Мы каждый день виделись в Совете и за ужином, однако избегали смотреть друг другу в глаза и ограничивали наши разговоры государственными делами. Я знала, что Колиньи часто покидает двор ради поездок в Шатильон к детям. Бираго, не спрашивая меня, подкупил одного из слуг Колиньи, чтобы держать нас в курсе его занятий, и хотя в глубине души я досадовала на убежденность Бираго в том, что за Колиньи нужно следить, мне становилось спокойней оттого, что он остается под нашим присмотром.
Колиньи был не единственным человеком, который сделался для меня лишь частью прошлого. Однажды, июльским днем, когда в окна моих покоев в Фонтенбло веял пахнущий цитрусами ветерок, я получила известие из Салона.
Нострадамус скончался.
Я не могла представить его мертвым. Невероятная мудрость этого человека, способность заглянуть в глубины того, что едва видимо простым людям, казались мне неподвластными проклятию смерти. Глубоко опечаленная этой утратой, я запоздало вспомнила про его прощальный дар — свиток, так до сих пор и лежавший в кожаном футляре. Я отослала карту в Шомон, попросив Козимо истолковать ее и пообещав навестить его при первой же возможности.
Куда меньше огорчило меня известие о другой кончине. В Ане, после долгих лет затворничества, на шестьдесят шестом году жизни испустила дух Диана де Пуатье. Я узнала об этом из письма сборщика налогов. На краткий миг я погрузилась с головой в прошлое, вспомнив, какой видела Диану в последний раз, с каким каменным лицом она пожинала плоды своего падения… И испытала нечестивую радость оттого, что она мертва, а я живу и процветаю. Я пережила Диану и обрела власть, какой она никогда не обладала. В ответном письме я велела сборщику налогов продать все имущество Дианы и навсегда закрыла эту тягостную главу своего прошлого.
В августе того же года мне сообщили, что моя дочь Елизавета разрешилась от бремени девочками-двойняшками. Я была вне себя от радости; ликовал и Филипп, который велел устроить в Мадриде многодневные празднества. Тронутая решением окрестить одну из девочек в мою честь Каталиной, я послала им в подарок два парных золотых кубка, на которых были выгравированы имена малышек, а Елизавете написала длинное письмо, которое изобиловало советами и рецептами травяных снадобий, необходимых для восстановления сил после родов.
Как обычно, мы перебрались в Амбуаз, где я навестила стареющих львов, живших в этом замке со времен Франциска I. Бедные звери прозябали в таких жалких условиях, что я велела придворному архитектору выстроить для них великолепный новый вольер с огороженным загоном, где они могли бы резвиться, сколько их душе угодно. Карл обожал львов и мог часами наблюдать, как они бродят по вольеру, издавая оглушительный рык. Он подумывал даже использовать их для медвежьей травли, но я, обеспокоенная этой идеей, взамен приставила его помогать смотрителям нашего зверинца — вилами проталкивать в загон огромные куски свежего мяса, которое львы пожирали с нескрываемым удовольствием.
Карл вернулся к своему обычному образу жизни. Ему уже исполнилось шестнадцать, и он мог править самостоятельно, однако внезапно вспыхнувшее в Блуа стремление к независимости больше в нем не проявлялось. Он по-прежнему регулярно занимался учебой и посещал заседания Совета, но все свободное время возился с соколами и оружием. Они с Генрихом даже оборудовали свою оружейную мастерскую, где усердно ковали и плющили молотками железо и бронзу. Это занятие укрепило их мускулы и к тому же изрядно сблизило братьев, хотя Марго фыркала, что от них пахнет кузней, а двенадцатилетний Эркюль вечно путался под ногами и зарабатывал ожоги.