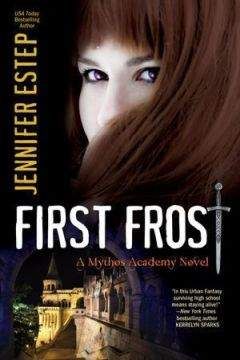«Голова одной семги стоит тысячи голов лягушек», — прозвучал в моей памяти голос Филиппа.
В тот миг я поняла: это его рук дело. Он предостерегал: если я не исполню его требований, мне придется пенять на себя. Каким-то образом его люди проникли в ряды гугенотов и посеяли панику.
— В этом конверте вы найдете письмо из Испании, — прибавил монсеньор, словно прочтя мои мысли. — Автор подробно описывает вашу встречу в Байонне и советует гугенотам готовиться к смерти. Я и не подозревал, что вы с Филиппом вели такие увлекательные беседы. Сожалею, что я их пропустил.
— Мы говорили только один раз. Один! И я отказалась пойти на какие бы то ни было уступки. Я ни на что не давала согласия.
Монсеньор вздохнул.
— Это моя вина, — взяв у него конверт, проговорил Бираго. — Мне следовало это знать; мне следовало поступить так, как поступил монсеньор. Я… я был обманут. Мой осведомитель оказался двойным агентом; в сведениях, которые он присылал, не содержалось ничего достойного внимания.
— Теперь это не важно, — сквозь зубы проговорила я. — Колиньи известно, что мы не можем позволить себе содержать регулярную армию. Неужели он нападет на нас, зная, что мы беззащитны?
— Не нападет, если это будет зависеть от наших с монсеньором действий, — сказал Бираго. — Мы отправили коннетабля Монморанси в Париж, чтобы поднять наших сторонников, и призвали к оружию всех дворян-католиков. Под командованием Колиньи десять тысяч солдат. Собрав все силы, мы сумеем одолеть их.
Мне хотелось выкрикнуть, чтобы немедля был выдан ордер на арест Колиньи. Я простила его, я сделала все, чтобы снять с него обвинения в убийстве человека благородной крови, и вернула его ко двору, где он заседал в Совете моего сына. Даже оплакивала страсть, которая некогда нас соединяла. И вот теперь я оказалась перед лицом нового гугенотского мятежа, а Колиньи — не кто иной, как предводитель этого мятежа! Он предпочел поверить испанским наветам, нежели прийти со своими сомнениями ко мне. Как и в прошлый раз, он не доверился мне, но предпочел раздуть за моей спиной пожар войны.
Он исполнен решимости уничтожить всех нас.
Я стиснула зубы. Даже боль в ноге отступила.
— Мы немедля отправляемся в Париж. Если Колиньи так жаждет войны, видит Бог, я утолю его жажду.
В последующие шесть месяцев мы сражались с гугенотами, подстерегая их на затопленных бродах и отдельно стоящих холмах, ввязываясь в бой или отступая. Когда гугенотам случалось захватить католический город, первыми жертвами становились наши женщины: их насиловали и рубили на куски на глазах у детей. Предавались огню церкви, разорялись церковные реликвии, священников сжигали на кострах в издевательском уподоблении инквизиции. Впрочем, мы могли быть не менее жестоки; когда наше войско вступало в город, принадлежавший гугенотам, солдаты развлекались тем, что насаживали на пики и развешивали на городских воротах их головы, руки и ноги.
Я почти не спала, надзирая за своими младшими детьми и смятенным Карлом, который никак не мог понять, почему мы снова воюем. А Франция между тем превращалась в кошмарный мир сожженных дотла полей, разоренных деревень и жалких лачуг, в которых ютились сироты и вдовы.
Когда мой изначальный гнев из-за предательства Колиньи отчасти утих, я принялась искать примирения. Я отсылала бесчисленные письма, в которых просила о встрече, напоминала Колиньи о наших соглашениях и обещала ему полное прощение, если он сложит оружие и явится ко двору, дабы обсудить свои претензии.
Все мои усилия оказались тщетны.
Гугеноты распространяли в захваченных городах памфлеты, отпечатанные в Женеве на деньги Елизаветы Тюдор. Осведомители Бираго доставили мне один из таких памфлетов. Он назывался «Мадам Змея и ее сынок Прокаженный Король», и я дрожала от ярости, глядя, как моего сына изображают порочным, отягощенным дурными хворями монархом, который купается в крови невинных младенцев, а меня — прожорливой тушей, которая восседает на троне, попирая ногой груду отрубленных гугенотских голов.
Затем пришло известие, что Колиньи с почетом принял в северо-западной морской крепости Ла-Рошель Жанну Наваррскую. Жанна прибыла туда, проехав инкогнито через нашу истерзанную войной страну вместе со своим четырнадцатилетним сыном; держа его за руку, она поднялась на укрепления Ла-Рошели и оттуда призвала от его имени гугенотов сражаться с нами, не жалея жизни. Затем Колиньи высоко поднял штандарт принца и прокричал: «Зрите подлинного спасителя Франции! Когда Генрих Наваррский станет королем, мы навсегда освободимся от тирании Валуа!»
Я была вне себя. С одной стороны, я ни на миг не забывала предостережение Нострадамуса, что мне надлежит оберегать юного Генриха, с другой — не могла смириться с тем, что его превозносят как будущего вождя гугенотов и что его право на трон поставлено выше прав моих сыновей. За это Жанна заслужила мою вечную ненависть, однако подлинный напор своего гнева, кипящий котел ярости и злобы я изливала на голову Колиньи. Он предал мое доверие, объявил мне войну, а теперь еще нанес самое страшное оскорбление — опорочил моих детей.
На сей раз я ему отомщу.
Я назначила за голову Колиньи награду в десять тысяч ливров и повелела нашим войскам осадить Ла-Рошель. Даже не стала возражать против желания Генриха присоединиться к армии и воевать под началом коннетабля. Ему почти шестнадцать, он силен и красив; присутствие принца крови укрепит боевой дух наших солдат, а Монморанси убережет его от беды. Я заказала для Генриха позолоченные доспехи, а он заявил, что если захватит Колиньи, то пришлет мне его голову и не потребует награды. Я посмеялась такому пылу; я была уверена, что ему никогда не представится случай подобраться так близко к нашему врагу. Позднее Генрих написал мне из походного лагеря о зарождающейся дружбе с молодым Гизом, который был на год старше и находился с ним неотлучно днем и ночью.
Близилась осень. Ла-Рошель выдерживала все попытки повергнуть ее оборону в прах, и я вновь направила предложения о мире. У нас заканчивались деньги. Несмотря на заманчивые посулы Филиппа, я не желала брать у Испании ни гроша, зато гугенотов постоянно снабжала деньгами Англия.
Вмешательство Елизаветы Тюдор в ход нашей войны становилось слишком весомым. Теперь она содержала в заточении Марию Стюарт; злосчастный второй брак Марии и смерть ее мужа, вызвавшая всеобщие подозрения, привели к тому, что протестантские лорды Шотландии подняли мятеж против своей королевы. Мария бежала в Англию и предала себя в руки Елизаветы; та, охваченная страхом, поместила ее под стражу. Я не могла пробудить в себе сочувствие к Марии; она сама была повинна в превратностях своей судьбы. Однако Елизавета считала должным поддерживать Колиньи, а мне нужно было заставить ее прекратить эту поддержку, и потому я послала ей письмо, напомнив, что Мария все же помазанная монархиня. Я надеялась внушить Елизавете, что ей следует заботиться о нуждах собственного королевства, а не поощрять французских мятежников. Мой расчет оказался верен. Не прошло и нескольких дней, как английский посол явился ко мне, образно говоря, с белым флагом и попросил обратиться к Елизавете с предложением о браке между нею и одним из моих сыновей. Я улыбнулась. Елизавета прекрасно знала, что подобные переговоры, учитывая разницу в возрасте, могут вестись не один год. Она не станет спешить с решением, будет принимать мои подарки и льстивые уговоры, а Колиньи между тем вскоре обнаружит, что английское золото, наполнявшее его сундуки, иссякло.