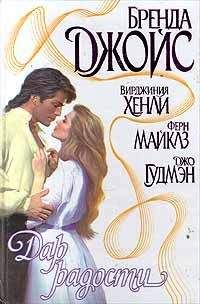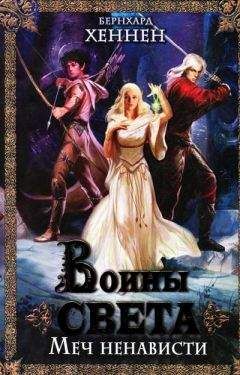— Что она делает? — спросила я у фройляйн Флиднер.
— Она попросила дать ей какое-нибудь занятие, поскольку надеется таким образом заглушить свою боль. Она подписывает пакетики с семенами — её отец был учителем в долине Доротеи, и она пишет очень красиво.
Я снова вспомнила об этом, когда Эмма, горничная, снова принесла мне список расходов — но у меня не было ни пфеннига, и я, запинаясь, попросила её о нескольких днях отсрочки. Она, очевидно удивлённая, удалилась, а я около шести часов с бьющимся сердцем отправилась в главный дом… Это был вечер чаепития у господина Клаудиуса — моего отца тоже пригласили, но пока он был в резиденции, чтобы поприветствовать принцессу Маргарет, которая вернулась в замок после трёхмесячного отсутствия.
Я сняла пальто в комнате фройляйн Флиднер.
— Детка, — несколько смущённо сказала пожилая дама, прижав мою голову к груди, — если с вашей кассой будет что-то не в порядке, вы, конечно же, обратитесь ко мне?
Я пришла в ужас — Эмма проболталась; но мне не хотелось сознаваться в моих трудностях — было стыдно из-за отца. И что мне даст, если она одолжит мне денег? Ведь их надо будет вернуть… Я сердечно поблагодарила её и твёрдым шагом направилась в контору — впервые с тех пор, как Илзе уехала.
Ещё из коридора я услышала, как господин Клаудиус ходит по комнате туда-сюда. Когда я открыла дверь, он обернулся на шум и остановился, заложив руки за спину. На его столе горела лампа с зелёным абажуром, все остальные столы были не освещены — господа уже ушли с работы.
Меня охватила дрожь — этот высокий, стройный человек только что быстрыми шагами мерил опустевшую полутёмную комнату — я сразу подумала о тех временах, когда страстная боль без устали гоняла его по саду. Моё появление в конторе, казалось, неприятно поразило его — он невольно взялся за абажур и снял его с лампы, так что её свет залил мою робко застывшую на пороге фигуру. Мне стало так неуютно, как будто я стояла у позорного столба; но я собрала в кулак всю свою волю, подошла к нему и с неловким поклоном положила перед ним на стол бумагу.
— Не будете ли вы так добры посмотреть на почерк? — сказала я, опустив глаза.
Он взял в руки бумагу.
— Красивые, чёткие буквы — выглядят крепкими и упрямыми, я бы даже сказал воинственными, но не лишены грации, — сказал он и с полуулыбкой повернулся ко мне. — Можно подумать, что пишущий надел железную перчатку, чтобы замаскировать маленькую нежную ручку.
— Значит, они красивы — но пригодны ли они? Я была бы рада! — сказала я нервно.
— Ах так, это относится к вам больше, чем я думал — это вы писали?
— Да!
— И что вы понимаете под пригодностью? Разве вам не достаточно, что вы теперь пишете так красиво, ловко и бегло?
— Нет, далеко не достаточно! — быстро возразила я. — Я хочу писать так, чтобы мне можно было доверить работу. — Ну вот, я высказалась, и моя смелость возросла. — Я знаю, что у вас женщины тоже надписывают пакетики с семенами — может быть, вы попробуете и со мной?.. Я буду очень стараться и работать точно по инструкции. — Я поглядела на него, но тут же опустила взгляд — его синие глаза так пылко и вместе с тем так сочувственно смотрели на меня и были так выразительны, словно они и не принадлежали его спокойной и горделивой фигуре.
— Вы хотите работать за деньги? — спросил он тем не менее очень хладнокровно, почти деловым тоном. — Вам не пришло в голову, что вы в этом не нуждаетесь? У вас ведь есть наследство… Скажите мне, сколько вам нужно и для чего. — Он положил руку на железную шкатулку, стоявшую на столе.
— Нет, я так не хочу! — живо вскричала я. — Пускай они лежат и дальше. Моя дорогая бабушка сказала, что их достаточно, чтобы уберечь от нужды, а я ещё не в нужде, избави бог!
Он убрал руку со шкатулки — я не знаю, почему при виде его своеобразной улыбки мне сразу же подумалось, что он тоже знает про Эммину болтовню. Это повергло меня в уныние и одновременно укрепило в моём решении.
— У вас, очевидно, не совсем верное представление о работе, за которую вы хотите взяться, — сказал он. — Я знаю, что через пять минут ваши щёки станут красными, а мысли в голове и ноги под столом восстанут против ненавистной писанины…
— Сейчас это изменилось, — стыдливо перебила я его — он цитировал мои собственные ребяческие слова, какими я когда-то описывала свою ненависть к письму. — Это далось мне тяжело, это правда, я с этим не спорю, но я себя преодолела.
— В самом деле? — досадная улыбка снова появилась на его лице. — Значит, вы полностью отринули свои вересковые привычки? Вы ненавидите лазанье по деревьям и больше не понимаете, как вы могли когда-то бегать по воде?
— О нет, я совсем ещё не так образована! — против воли вырвалось у меня. — Я даже не могу себе представить, что когда-нибудь придёт время, когда я без тоски смогу слышать шелест деревьев и плеск воды — но я научусь обуздывать свою тоску, так же как я, сжавши зубы, — я показала на бумагу, — преодолела своё неприятие.
Он отвернулся и поглядел на штору — словно хотел посчитать на ней нитки. Затем он взял маленький пакетик и протянул мне. На нём красивым почерком стояло: «Rosa Damascena».
— Представьте себе, что вы должны будете написать это четыре сотни раз, — с нажимом сказал он.
— Хорошо, вы увидите, что я смогу!.. Это название цветка, и если я слово «Rosa» должна буду написать тысячу раз, я буду представлять себе её прекрасный аромат — розовый цветок для меня подобен чуду, я всегда считала его королевским дворцом для бабочек — это тоже одно из моих «вересковых» представлений — теперь вы доверите мне работу?
Он молчал, и мне вдруг пришло в голову, что он так подробно описывал мне все эти сложности, потому что не хотел прямо говорить мне, что он не может использовать мою писанину. Глубоко униженная, я подумала о Луизе, дочери учителя — она всё ещё была здесь, и её неутомимые, ловкие руки вызывали всеобщее восхищение; во всяком случае, она делала своё дело несравненно лучше меня, и с моей стороны было самонадеянным попытаться стать с ней на одну доску. Ах, как я горько пожалела, что пришла сюда!.. С внезапным приступом прежней строптивости я взяла листок со своими каракулями и сунула его в карман.
— Я чувствую, что была нескромной, что была слишком высокого мнения о моих достижениях, — сказала я, задыхаясь. — Сейчас, когда я вижу этот красивый, грациозный почерк, — я показала на пакетик, — сейчас мне очень стыдно…
Я быстро шагнула к двери, но он уже стоял передо мной.
— Не уходите от меня, — сказал он самым мягким тоном. — Я веду себя глупо! Вы даёте мне первое доказательство вашего едва зародившегося доверия, а я вам возражаю. — Но я не могу согласиться, чтобы вы подвергали себя пытке, которая противна вашей натуре — вы сами сказали, что чисто механическую работу вы выполняете, крепко сжав зубы… И я не хочу, чтобы ваша чистая рука, которая до сих пор едва касалась денег с их липким проклятием, трудилась за гроши — семнадцатилетнее чудо, которое никогда не видело денег, — вы думаете, что тогда это мгновение ускользнуло от меня, как, к примеру, новое место, чужедальняя одежда или что-то в этом роде?.. Я с самого начала объяснял вам, что дикий, буйно разросшийся элемент вашей натуры должен быть поставлен в рамки — невоспитанность в моих глазах портит женственность, даже если многие при этом восхищаются дикой грацией, — но ваша индивидуальность не должна пострадать.