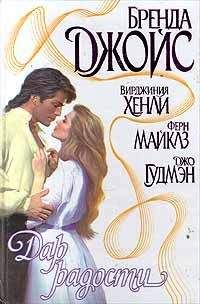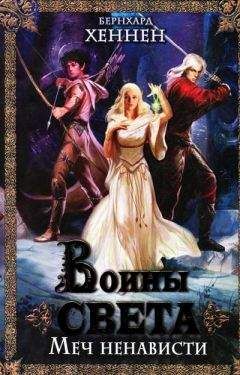— Не уходите от меня, — сказал он самым мягким тоном. — Я веду себя глупо! Вы даёте мне первое доказательство вашего едва зародившегося доверия, а я вам возражаю. — Но я не могу согласиться, чтобы вы подвергали себя пытке, которая противна вашей натуре — вы сами сказали, что чисто механическую работу вы выполняете, крепко сжав зубы… И я не хочу, чтобы ваша чистая рука, которая до сих пор едва касалась денег с их липким проклятием, трудилась за гроши — семнадцатилетнее чудо, которое никогда не видело денег, — вы думаете, что тогда это мгновение ускользнуло от меня, как, к примеру, новое место, чужедальняя одежда или что-то в этом роде?.. Я с самого начала объяснял вам, что дикий, буйно разросшийся элемент вашей натуры должен быть поставлен в рамки — невоспитанность в моих глазах портит женственность, даже если многие при этом восхищаются дикой грацией, — но ваша индивидуальность не должна пострадать.
— Ну, рамки я обрету тем, что буду серьёзно и напряжённо работать, — возразила я упрямо. — Я знаю, что другие ищут в работе успокоения — вы сами работаете с утра до ночи и от своего окружения требуете того же.
Он улыбнулся.
— Я по праву требую от каждого сотрудника серьёзного трудолюбия в профессии… Но вы же не думаете, что я такой ревностный работник, что я всех стригу под одну гребёнку?.. Тому, кто грубой пилой срезает с дерева лишние ветви, я позволяю работать по своему разумению; но я могу сильно отругать его, если он своими заскорузлыми пальцами тронет нежный цветок и сотрёт с лепестка непорочный бархат… Мне бы хотелось видеть своенравное движение маленькой кудрявой головки более мягким, но это должно быть достигнуто через духовное развитие, а не посредством парализующего ярма механического труда…
Я была на грани того, чтобы потерять единственную возможность получить работу — мне никак не удавалось вернуться к деловому тону, который безнадёжно покинул и его самого… Всё, что он говорил, звучало так глухо и сдержанно, как будто он чувствовал, что любое повышение голоса может разжечь пожар из внутреннего пламени и вызвать в нём резкость… Было ли сказано какое-нибудь слово, которое разбередило в нём воспоминание о неверной женщине?.. Побуждаемая непонятно острой болью и сочувствием к когда-то так глубоко оскорблённому, я прибегла к единственному средству, которое у меня оставалось, — к просьбе. Я уговаривала и просила мягким голосом, от которого сама пришла в ужас. И его лицо словно осветилось лучом солнца.
— Ну что ж, пусть будет так, как вы хотите! — неуверенно сказал он после короткого раздумья. — Теперь я понимаю, почему даже строгая, суровая фрау Илзе так мало могла добиться от вересковой принцессы!.. Нет, нет, мы ещё не закончили! — воскликнул он, когда я после нескольких благодарственных слов собиралась покинуть комнату. — Будет только справедливо, если теперь и я кое-то для себя попрошу, не так ли?.. Не бойтесь, вам не придётся пожимать мне руку. — Как обжигающе-горько это для меня прозвучало! — Я хочу всего лишь попросить вас откровенно ответить на один вопрос.
Я вернулась и посмотрела на него.
— Я не ошибся — это ваш голос окликнул меня, когда я в ночь несчастья вернулся из долины Доротеи?
Я почувствовала, как моё лицо заливает краска, но без колебаний ответила:
— Да, это была я — я боялась… — и я замолчала, поскольку дверь открылась и вошёл старый Эрдман… С выражением глубочайшей досады господин Клаудиус указал ему на пачку писем, которые надо было отнести на почту. У Эрдмана в руках уже было одно письмо; он положил его на стол и стал засовывать деловую корреспонденцию в сумку.
— От фройляйн Шарлотты, — пояснил он, заметив, что его господин с неприятным удивлением разглядывает печать на письме.
— Отнесёте его на почту завтра утром, Эрдман, — коротко сказал господин Клаудиус и забрал письмо себе.
За это время я добралась до двери, и прежде чем он смог ещё раз окликнуть меня, я с лихорадочно бьющимся сердцем выскочила в коридор. Я перевела дыхание — сварливый старик появился как раз вовремя; ещё немного, я и бы призналась господину Клаудиусу, что в тот вечер сильно переживала за него… Как это получилось? Я совершенно потеряла почву под ногами… Старый господин с синими очками — это первое представление развеялось как дым, и изо всего, что произвело на меня впечатление при вступлении в новый мир, ничто не могло сравниться с импонирующей личностью «мелочного торговца».
Я побежала по лестнице в салон. Это были три большие, светлые комнаты, включая Шарлоттину. Двери между ними всегда стояли открытыми, и господин Клаудиус имел обыкновение, ведя беседу, прогуливаться туда-сюда по всем трём залам. Круг людей, собиравшихся здесь за чайным столом, был довольно узок. Периодически приходили пожилые господа, именуемые уважаемыми людьми, и друзья прежних лет. Мой отец — и, само собой разумеется, его «маргаритка», — а также юный Хелльдорф были постоянными гостями; приходила и Луиза, молодая сирота и молчаливая вышивальщица. Бухгалтер, напротив, попросил раз и навсегда освободить его от участия в чаепитиях — он-де стареет и боится ходить через сад холодными, туманными вечерами; в действительности же он откровенно сказал, что физиономия Клаудиусовского дома стала настолько сомнительной, что он «умывает руки» и не хочет участвовать в том, в чём сегодняшнему владельцу фирмы придётся когда-нибудь дать отчёт своим предкам.
Сегодня гости ещё не появились. Это был холодный ноябрьский вечер; тонкие струи дождя, превращавшегося у самой земли в облачка тумана, переплетались с первыми снежинками, а в переулках хозяйничал резкий, порывистый ветер. В салоне фройляйн Флиднер хлопотала у чайного стола. Пожилая дама была взволнована — фарфоровые чашки и блюдца дребезжали под её руками и никак не хотели становиться на места… Шарлотта наблюдала за ней со злобной улыбкой. Она расположилась в углу дивана, погружённая в блестящие зелёные волны рюшей и буфов шёлкового платья. Её импозантная красота не могла не привлечь к себе внимание — роскошные формы уютно разлеглись на тёплых, пышных подушках; но я невольно поёжилась, представив себе контраст между ноябрьской непогодой и обнажёнными плечами Шарлотты, прикрытыми лишь тонким кружевом.
— Я прошу вас, дражайшая Флиднер, будьте, ради бога, осторожны, — аффектированно воскликнула она, не изменив ни на йоту своего удобного положения. — Покойная фрау Клаудиус перевернулась бы в гробу, если бы узнала, как вы обращаетесь с её фарфоровыми сокровищами, напоминающими о днях рождения, семейных юбилеях и Бог ещё знает о чём… Дело не стоит и выеденного яйца, чего вы так волнуетесь?.. Что я могу сделать, если мне эта Луиза антипатична? И разве я виновата, что эта царевна Несмеяна всегда выглядит так, как будто она извиняется перед богом и людьми за то, что вообще осмеливается существовать?.. Девушка инстинктивно чувствует то, что я сейчас выскажу прямо: она не вписывается в салон с её учительскими манерами. Это всё чрезмерный дядин гуманизм — предоставить ей положение, которому она совершенно не соответствует… Ах боже мой, я тоже не чудовище — но это правда!.. Добрый вечер, принцессочка!