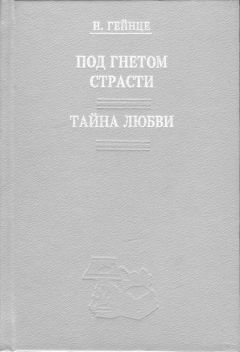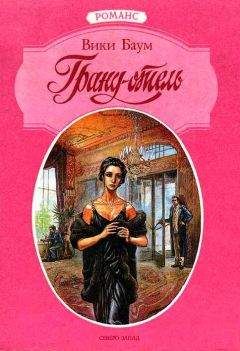Он видел страдания несчастного: искренность его раскаяния не подлежала сомнению.
Бог жестоко поразил виновного, и люди уже не имели права прибавлять ему наказания.
Караулов, по-прежнему, дружески обнял графа Владимира Петровича.
Последний дрожал как в лихорадке и, положив голову на плечо Федора Дмитриевича, рыдал как безумный.
Последний был глубоко тронут.
— Увези меня отсюда, — сквозь рыдания говорил граф, — умоляю тебя, увези меня, я не могу, я не хочу здесь больше оставаться…
Этого только и хотел Караулов, но пожимая руку графа, он понял, что у Владимира Петровича начинается сильная лихорадка; зрачки глаз его были сильно расширены.
— Нет, не теперь, по крайней мере сегодня тебе уехать нельзя… Ты не в состоянии перенести путешествия… Отдохни эту ночь, а завтра утром с первым поездом мы уедем… Я приеду за тобой.
— Нет, нет, поедем сегодня.
— Нельзя, я тебе говорю это как доктор…
Граф должен был уступить благоразумному совету друга и отменить свое решение.
Он заставил рассказать себе подробно о жизни графини, о болезни маленькой Коры.
Федор Дмитриевич постарался это сделать, смягчив краски, чтобы не беспокоить и без того больного, разбитого человека.
Наконец, он уговорил графа лечь и отправился домой.
Лакей подал ему телеграмму.
Какое-то тяжелое предчувствие наполнило сердце Караулова, когда он взял сложенную аккуратно бумажку, заключающую в себе порой радость, порой горе.
Он развернул ее, прочитал и прочитавши не мог удержаться на ногах.
Он сел на первый попавшийся стул и еще несколько раз перечитал эти строки, написанные равнодушной рукой телеграфиста.
«Сегодня в два часа ночи наш ангел отлетел.
Конкордия».
Таково было роковое содержание телеграммы.
Первая мысль Федора Дмитриевича была об отце, так рано взятого смертью ребенка, об отце, искренно раскаявшемся и ожидавшем получить прощение жены и дочери.
Он понимал, что смерть Коры вырыла еще большую пропасть между графиней и графом — эта пропасть была могила дочери, которой отец отказал в последнем поцелуе.
Раскаяния графа, значит, было недостаточно.
Он не был прощен.
Сердце доктора Караулова сжалось невыносимой болью. Он закрыл лицо руками и первый раз в жизни заплакал.
На другой день в назначенный час он был у графа Белавина.
Он застал его совершенно одетым по-дорожному, маленький чемодан стоял в передней, но состояние его было хуже вчерашнего.
Цвет лица его был совершенно багровый, он весь дрожал, не попадая зуб на зуб.
— Поедем, поедем! — воскликнул несчастный при виде входящего Караулова, встал с кресла, но не мог устоять на ногах и снова сел.
Федор Дмитриевич с отчаянием во взоре смотрел на него.
В таком состоянии ему нельзя было ехать.
Да и к чему теперь послужит эта поездка?
— Мы не поедем, Владимир! — сказал Караулов.
— Не поедем, почему? — простонал граф.
— А потому, что ты в таком состоянии, что не можешь ехать…
Граф Белавин горько улыбнулся.
— Вот как, но это пустяки… Ты ошибаешься!.. Ты увидишь, что как только я выеду из этого дома, я буду чувствовать себя очень хорошо. Поедем, поедем, мы опоздаем, поезд уйдет… Поедем скорее.
Он все время силился приподняться с кресла и встать, но не мог.
— Мой друг, ты не можешь стоять на ногах… как же ты поедешь. Повторяю, тебе нельзя ехать… Ты, надеюсь, имеешь ко мне доверие… я тебе говорю, что сегодня тебе ехать немыслимо.
— Сегодня! — воскликнул граф Владимир Петрович, поднимая с отчаянием руки. — Но тогда когда же? Не сказал ли ты, что часы Коры сочтены, что дорога каждая минута… Разве ты можешь, находясь здесь, отсрочить ее последний вздох.
Караулов грустно склонил голову.
Граф Белавин начал догадываться о грустной истине.
Он схватил руки своего друга.
— Это не то!.. Ты лжешь, Федор! Есть что-то другое, что ты скрываешь от меня… Моя Кора!
Караулов молчал.
— Отвечай, отвечай же, несчастный! — умолял обезумевший отец.
Доктор склонился к нему и горячо поцеловал его.
— Будь тверд, Владимир… Никто, как Бог!
Расширенные зрачки графа остановились на Караулове.
Граф Владимир понял.
Он схватился за голову, истерически захохотал, с перекосившимся лицом и диким стоном вскочил с кресла и в ту же минуту ничком упал на ковер.
Глаза его вышли из орбит, зрачки остановились.
С ним сделался нервный удар.
Федор Дмитриевич с помощью лакея перенес его в спальню, раздел и пустил кровь — старое средство, но в иных случаях спасительное.
Это принесло больному некоторое облегчение, но по учащенному пульсу и пылающей голове доктор Караулов понял, что болезнь только начинается.
В спальню вошла Надежда Николаевна с напускною важностью, Федор Дмитриевич обратился к ней, указывая на больного.
— Ему угрожает смерть… Вы одна виновница этого… Ваша совесть сумеет, надеюсь, указать вам ваши обязанности.
— Я их знаю… Уже послано за доктором, — надменно, но все же с дрожью в голосе, отвечала она.
Федор Дмитриевич вышел из спальни своего бесчувственного друга и уехал домой.
По приезде он тотчас же послал телеграмму на имя графини Конкордии Васильевны Белавиной следующего содержания:
«Владимир при смерти. Как только будет возможно, приезжайте. Ваше присутствие необходимо.
Караулов».
Графиня Конкордия Васильевна Белавина на своей вилле изнемогала под тяжестью постигшего ее горя.
Бывают минуты отчаяния, такого всепоглощающего уныния, что в душе человека гаснет последний луч надежды, и он чувствует себя окруженным непроницаемым, беспросветным мраком.
В таком положении находилась и несчастная женщина.
Она чувствовала себя совершенно беспомощной, разбитой и физически, и нравственно.
В это-то время она получила телеграмму Караулова и хотя прочла, но не поняла ее.
Все ее думы тогда были сосредоточены на дорогих останках, покоящихся в гробу.
Маленькая Кора лежала, как живая, в белом платье, вся усыпанная цветами. Какая-то точно радостная улыбка застыла на маленьких губках.
Казалось, она сладко спала.
Телеграмма была брошена на письменный стол будуара.
Лишь через два дня, после того как все было кончено, когда гроб вынесли из дома и после отпевания опустили в могилу на сельском кладбище, и могила была засыпана, несчастная мать могла начать что-либо соображать.