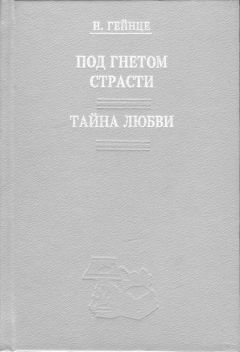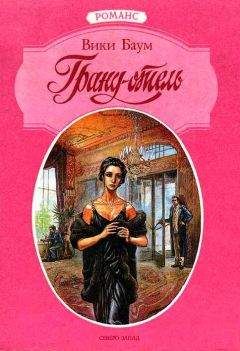«А если он опоздает? Если смерть наступит раньше, нежели он разыщет и привезет графа Владимира?» — мелькала у него в голове роковая мысль.
Граф Владимир Петрович, захватив второпях первые попавшиеся шляпу и пальто, выбежал как сумасшедший из-под крова жилища, стены которого были свидетелями его преступной любви.
Хотя сообщение женщины, к которой он чувствовал теперь чисто физическое отвращение, об измене графини Конкордии и его бывшего друга Караулова, было неправдоподобно и гнусно, но оно все же жгло ему мозг.
Еще не освободившийся от понятия о жизни, как о ряде чисто плотских наслаждений, он судил по себе о других, и это отчасти поселило в его больном мозгу вероятность отвратительной клеветы.
Эта-то кажущаяся вероятность мучительно отзывалась в его сердце.
Нет людей безусловно и окончательно испорченных.
Как низко ни пал человек, он не может окончательно заглушить теплящуюся в нем искру Божию.
Поклонение идеалу в той или другой форме сохраняется в душе самого порочного человека.
Возьмите падшую женщину, превратившуюся в жертву общественного темперамента, которая имела счастье быть матерью.
Она расскажет вам с восторгом о своем сыне или дочери, которых воспитывает вдали от себя, на деньги, добытые грехом.
При воспоминании о ребенке она преображается. Перед вами мать, в полном святом значении этого слова.
Она скажет вам, что ее ребенок не будет таков, как его мать.
Попробуйте усомниться в этом громко, она не простит вам этого, хотя за минуту простит какое угодно оскорбление ей лично — она привыкла к отношению к себе, как к животному.
Ребенок и материнство — ее идеал.
Идеалом графа Белавина было уважение к жене и другу.
Змея ужалила его в самое больное место, яд сомнения проник в его душу.
И это произошло именно в то время, когда он только что начал надеяться на прощение жены и друга. Он готов был принять от них всевозможные условия и испытания.
Он любил своих судей и хотел видеть их безупречными.
Даже в аду он бы не проклинал своих богов — Конкордию и Караулова.
И вдруг все изменилось.
Святотатственная рука уничтожила разом двойную святыню его погрязшей в пороке души, низвела его божества с пьедестала на землю, разбила его единственные идеалы.
Граф вдруг сделался, в свою очередь, судьей.
Это ему казалось более чем странным.
Эта новая роль его пугала, она была ему не по силам.
Он был виноват, он был осужден, он это знал, он, подобно падшему ангелу, сохранил на вечное мучение себе в своей душе некоторое впечатление светлого неба — он это чувствовал.
Он мог бы ненавидеть Конкордию и Караулова, но видеть их падение было для него невыносимо.
Он шел по аллее Каменного острова в кое-как надетом пальто с надвинутой на лоб шляпой.
Редкие, встречавшиеся здесь в этот час, прохожие с любопытством смотрели на него.
Он это заметил.
Чтобы скрыться от любопытных взглядов, он повернул в более глухую аллею и замедлил шаг.
Аллеи островов ранней весною и поздней хорошей осенью очаровательны, но графу Белавину было не до красоты природы.
Он несколько пришел в себя под влиянием свежего благорастворенного воздуха, и первый вопрос, который появился в его уме, был: «Куда он идет»?
«Искать Караулова, — ответил он сам себе после некоторого раздумья».
Он вышел на набережную Большой Невки, где ему, наконец, попался извозчик.
Он сел, не торгуясь, и велел ехать ему на Малую Морскую.
Он подумал, что Федор Дмитриевич продолжает жить в гостинице «Гранд-Отель».
«Какой сегодня день?» — вдруг промелькнуло в его уме.
Он силился припомнить, но не мог, и обратился с этим вопросом к извозчику.
Тот обернулся, довольно подозрительно оглядел седока и отвечал:
— 20 сентября.
— 20 сентября! — повторил граф, и это полученное им сведение, казалось, привело в порядок его мысли.
Он обратил внимание на яркий солнечный день, на снующий по тротуару народ.
Ненависть и гнев, с которыми он вышел из дому, исчезли.
Странное чувство овладело им. Ему стало казаться, что чем дальше удаляется он от своего дома, тем в более тонкую нить растягивается его связь с Надеждой Николаевной, и вот скоро, скоро, когда лошадь сделает еще несколько поворотов, она совершенно порвется.
Он ликовал в предвкушении свободы и освобождения от гнета тяготевшего над ним преступления.
Он начал даже почти спокойно рассуждать о возможности, что в сообщении Надежды Николаевны о графине и его друге есть доля правды.
«Все мы люди, все мы грешны… — неслись далее его мысли. — Вина у нас обоюдная».
Решительно это была для него новая роль, роль обиженного, великодушно извиняющего своих обидчиков.
Он не заметил, как тихо ехал извозчик, не ощущал толчков пролетки при переездах рельсов конно-железной дороги и очнулся только тогда, когда извозчик остановился у подъезда «Гранд-Отеля».
— Доктор Караулов? — спросил граф у швейцара.
— Он выехал…
— Куда?
Швейцар справился по книге и сказал адрес.
На том же извозчике граф Владимир Петрович поехал в Караванную.
— Дома доктор? — спросил он у отворившего ему дверь лакея.
— Приехал вчерашний день, но сейчас только что уехал.
— Как приехал вчерашний день?.. Разве он не был в Петербурге?
— Нет, вот уже с месяц, как он пробыл в Финляндии.
— Не около ли Гельсингфорса?..
— Так точно-с…
Слова Надежды Николаевны подтверждались.
Несмотря на только что посетившие его мысли о взаимном прощении, кровь бросилась в голову графа Белавина, а сердце томительно сжалось мучением ревности.
Он, однако, быстро овладел собою.
— Вероятно у графини Белавиной?
— Точно так-с… Графиня приезжала сама за доктором, и он ездил туда лечить ее дочь от опасной грудной болезни…
— Что ты говоришь? — воскликнул граф, побледнев.
Причиной этой бледности была уже не ревность.
Иное чувство, чувство отца проснулось в несчастном. Страшное беспокойство о дочери овладело им.
— А не знаешь ты, — спросил он, задыхаясь, имеет ли доктор надежду на выздоровление дочери графини Белавиной.
— Не могу знать… Я знаю только, что вчера по приезде он посылал меня в адресный стол справляться о местожительстве графа Владимира Петровича Белавина, и вчера же вечером ездил к нему, но не застал его дома… Вернувшись, он несколько раз повторял про себя: «кажется невозможно привести этого отца к последнему вздоху его дочери».