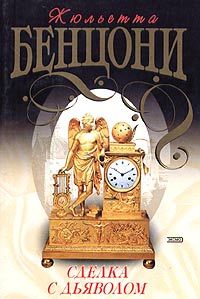– Вон отсюда! Вы, наверное, и впрямь сумасшедший. Как вы посмели говорить мне о любви после всего зла, которое натворили? Посмели мечтать о поездках в Комбер… в Комбер, где все знают, что бедная Дофина умерла от вашей руки, как, впрочем, и все остальные! Уходите из этой комнаты и запомните: вам не удастся удержать меня здесь дольше трех дней. Если по прошествии этого срока я не вернусь домой, знайте, произойдет такое, отчего вам волей-неволей придется освободить меня с сыном, потому что о вашей подлости узнает вся Овернь!
Маркиз потряс головой, будто хотел стряхнуть с себя сон. Постепенно взгляд его снова стал ледяным, как всегда. Он посмотрел прямо в глаза Гортензии, все еще стоявшей возле двери.
– Что мне пересуды всяких босяков и даже равных мне по положению людей, если вы навсегда останетесь со мной? Дорогая, ваши угрозы меня нисколько не страшат. Напротив, страшно было бы сознавать, что больше никогда я не увижу вас. Вы сбежали от меня в Париже, но здесь-то уж я вас ни за что не отпущу.
– Лишь от вас зависит, чтобы я по доброй воле осталась тут. Признайте своего сына. Если мой Этьен вам внук, то только потому, что Жан ваш сын. Признайте это перед всеми! Признайте, что его зовут Жан де Лозарг, и тогда я останусь здесь на всю жизнь, а не только до конца ваших дней…
– Но с ним, не правда ли? С ним, а не со мной?
– Ведь вы тоже будете здесь! Наша семья сможет жить открыто, подобно прочим. Как же вы можете не любить его, когда он похож на вас, как две капли воды? Воздайте ему по справедливости… Он столько страдал из-за вас… И тогда, клянусь, я забуду то зло, которое вы причинили и мне, и другим. Забуду о ваших преступлениях…
Губы его скривились в дьявольской усмешке, и Гортензия, несмотря на всю свою отвагу и уверенность в себе, почувствовала, как ее начинает бить дрожь.
– Какое великодушие! Вы предлагаете мне роль предка, отца семейства, с палочкой сидящего у камелька и дряхлеющего год от года, в то время как вы, двое, будете царить. Я должен покорно наблюдать, как вы год за годом будете приносить этому мужлану детишек. Смотреть, как по вечерам вы закрываетесь у себя в спальне, чтобы предаться ласкам и поцелуям, а я, несчастный, буду лишь распалять свое воображение в одинокие бессонные ночи, когда единственным обществом для меня останутся лишь собственные воспоминания? Даже не рассчитывайте, голубка! Я хочу вас для себя, но не для другого.
– Но на Этьена-то вы ведь были согласны?
– Тогда это не имело значения. Вы бы не смогли полюбить его. Тогда как этому ублюдку повезло – он сделал вам ребенка. Пусть этим и довольствуется! А ваша жизнь отныне принадлежит мне!
За ним с треском захлопнулась дверь, и Гортензия осталась одна в комнате, которую уж не надеялась увидеть когда-нибудь вновь. Она не услышала, как поворачивается ключ в замке, – только торопливые, быстро удаляющиеся шаги маркиза. Попробовала – дверь открылась. Хоть это хорошо! Не придется сидеть в четырех стенах, а можно по крайней мере ходить по замку. Так время пролетит быстрее. Немного успокоившись, она снова вернулась в комнату, которую за долгие месяцы, проведенные здесь, успела чуть ли не полюбить. С ее отъезда тут ничего не изменилось: мебель, вещи – все стояло на своих местах. Вот со скрипом растворилась дверца большого дубового шкафа. Там, аккуратно разложенные, лежали ее туалеты, она в спешке не успела их увезти. От платьев пахло мелиссой. В больших полотняных чехлах сохранились и праздничные наряды: туалет из розовой тафты с помолвки и белая шелковая с кружевами подвенечная фата. А рядом белое шерстяное платье – такие все они носили в монастырском пансионе. Оно было на ней в тот страшный день, когда она узнала о смерти родителей. Вся ее жизнь была заключена здесь, в этом шкафу, приятно пахнувшем пчелиным воском, и в секретере рядом. Сколько раз она садилась перед ним! Вот и потайной ящичек. Он поддался легко, так открывается дверь в дом друга. Там все еще лежал дневник, начатый на второй день после ее приезда в замок. Гортензия взяла дневник и долго вчитывалась в пожелтевшие страницы, заново переживая историю своей любви к Жану. Как хорошо было читать эти наивные записи! Казалось, дневник вела не она, а кто-то другой: страсть, горести и отчаяние до неузнаваемости изменили бывшую юную воспитанницу монастыря, теперь она стала совершенно другим человеком.
Кто-то робко постучался в дверь, и не успела Гортензия крикнуть: «Войдите!», как в комнату торжественно вплыла Годивелла с Этьеном на руках. Она несла его почтительно, как юного короля. Но Гортензия видела лишь своего мальчика, она тут же бросилась к нему:
– Мой маленький!
Схватила на руки и покрыла жадными поцелуями его личико, ручки. Это, похоже, ребенку понравилось, он засмеялся и немедленно схватил мать за длинные, отливавшие блеском кудри у шеи. Годивелла, как обычно, скрестив руки на животе, молча глядела на них. Но Гортензия слишком хорошо ее знала, чтобы не догадаться, что это молчание ненадолго.
– Приятно посмотреть на вас, госпожа Гортензия, вот так, в кресле, с ребенком на руках. Поверьте, ваше истинное место здесь. Не надо было уезжать.
– Это зависело не от меня, Годивелла. Вам разве не рассказали, почему и как я покинула этот дом? А, кстати, как поживает ваша сестра Сиголена? Вы ведь срочно отправились ее проведать тогда, на следующий день после рождения мальчика.
Годивелла, покраснев, опустила голову.
– Ей лучше… Вы знаете, если по правде, она ведь и вовсе не болела, Сиголена, но я узнала об этом, только когда уже приехала к ней. Господин Фульк не хотел, чтобы я ехала обратно. Он сказал: «Не появляйся в замке неделю…» Вот так сказал мне.
– А вам не показалось это несколько странным? Я лежала в этой комнате одна, без сил и без ухода, и была поставлена перед жестоким выбором: стать любовницей моего дяди или умереть. Если бы не Жан, я была бы уже мертва.
Годивелла покачала головой и недоверчиво улыбнулась.
– Он бы никогда не сделал этого… Он хотел попугать вас, и все… Он ведь вас так любит…
– Мою мать он тоже обожал! И, однако, хладнокровно послал ей смерть. Ах, Годивелла, Годивелла! Вы же славная женщина, у вас доброе сердце, как можете вы защищать такое чудовище? Да еще хотите, чтобы я жила здесь!
– Я хочу, чтобы здесь жил маленький! О госпожа Гортензия, вы не знаете, чем он стал для меня. Наверное, я полюбила его больше, чем любила бы своего собственного сына. Не отнимайте его у меня!
– Да никто и не собирается у вас его отнимать. Почему бы вам тоже не переехать жить в Комбер?
– Я? В Комбер? В дом этой злодейки?
Сообразив, что она говорит о покойной, Годивелла поспешно перекрестилась.
– И не просите, госпожа Гортензия. Там я не смогу жить как дома… А здесь я как у себя, и вы знаете, ни за что на свете я не брошу господина маркиза!