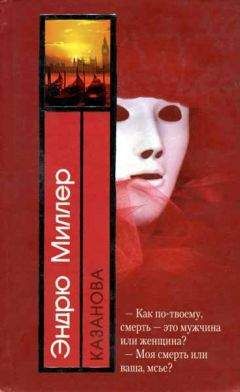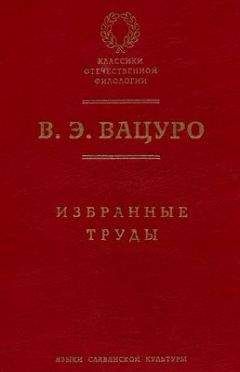глава 5
— Позвольте мне представить, — сказал Малинган. — Мсье Ка…
— Сейнгальт, — поправил его Казанова. — Шевалье де Сейнгальт. Но нам нет надобности представляться, потому что мы давно знакомы. Не правда ли, мадемуазель?
— Да, мсье, вы не ошиблись. В Париже вы посадили меня на колени, были очень любезны и поцеловали меня.
— Тогда вы были ребенком, а иначе я бы не позволил себе такую вольность.
— Мне было тринадцать лет.
— А теперь?
— Восемнадцать.
— Да, вы уже не ребенок.
— Нет, мсье.
— Я польщен, мадемуазель, что вы меня запомнили.
Она засмеялась. Как она могла забыть знаменитого…
— Какое имя вы сейчас носите, мсье?
— Сейнгальт. У мужчин может быть несколько имен, мадемуазель.
— У женщин тоже, — ответила Шарпийон и с силой взмахнула крылом своего веера.
— Я вспомнил, — проговорил Казанова. — В Париже вы называли себя Буланвиллями. А быть может, Аугспургерами?
— Аугспургер — это фамилия моей матери.
— Она в Лондоне, вместе с вами? Как она поживает?
— Благодарю вас, мсье.
— А ваши тетки?
— С ними тоже все в порядке.
— Могу я спросить, где вы живете?
— У нас особняк на Денмарк-стрит, неподалеку от церкви Сент-Джайлс. Не собирается ли шевалье нанести нам визит?
— Мадемуазель приглашает меня?
Малинган оставил их наедине. Казанова не отводил от девушки глаз, купая ее в их карем блеске.
— Я слышала, — заметила Шарпийон, — что вы тот самый джентльмен, поместивший объявление в окне.
— Да, и я этого не стыжусь.
— Говорят, что шутка вам дорого обошлась.
— Они ошибаются.
— Но теперь комнаты освободились? Я хотела бы их занять.
— А ваша матушка одобрит такой поступок?
— Нет, мсье, не одобрит. Но я желала бы проучить автора объявления.
— Он не совершил ничего предосудительного.
— Он оскорбил всех женщин, мсье. Он посмеялся над нами.
— Мадемуазель, уверяю вас, я неповинен в подобном намерении. И вы должны помнить, что здесь я иностранец. Чужой. Меня это устраивает, и я хотел бы оставаться в таком положении как можно дольше. Но ответьте мне, как вы накажете… незадачливого автора?
— Я заставлю его в меня влюбиться, а затем вволю поиздеваюсь над ним.
— Ваш план чудовищен, мадемуазель! И вы столь уверены в своих чарах?
— Вам известна поговорка, мсье: «Некоторые собаки любят, когда их бьют».
— Да, я ее слышал, однако не из столь юных и прелестных уст. Ради чести мужского пола я желал бы доказать, что вы заблуждаетесь.
— И что ж это за честь?
— А какова ваша честь, мадемуазель?
— А вы проверьте, — засмеялась она, — если знаете, где искать.
Они оба натянуто улыбнулись, как незнакомцы, готовые открыть друг другу сердца, или бывшие друзья, ждущие каких-то неприятностей. Казанова достал из петлицы камзола кроваво-красную розу, которую срезал утром в своем саду.
— Красота, — произнес он, аккуратно удалив шипы, — это естественный комплимент красоте. Прошу вас…
Она взяла цветок и повертела его в своей обтянутой перчаткой руке.
— Мсье, — призналась она, — у меня такое чувство, будто я знакома с вами всю свою жизнь.
«Аугспургер!»
Он произнес эту фамилию вслух по пути к дому и хихикнул, так что торговец улитками и мальчишка, помощник пекаря, болтавшие на углу Шир-лейн, повернулись, взглянули на него и нахмурились. Что это значит? Разве он только что не встретился с дерзкой молодой женщиной, красавицей с диковатыми манерами? И они не разговаривали почти как любовники? И разве мать этой девушки не задолжала ему шесть тысяч франков?
Вернувшись к себе, он сразу проверил все бумаги, хранившиеся в объемистом атташе-кейсе из зеленой кожи, и после нескольких минут поисков нашел скатанные в трубочки счета и расписки. Эти свитки документов пугали своей мертвой, юридической латынью. И были скреплены печатями, твердыми, как подошвы мужских башмаков. Он одолжил им деньги четыре года назад в Париже. Речь шла о каких-то драгоценностях, и в сделке кроме них участвовал этот женевский мошенник Боломе. Казанове нужно было только подтвердить в суде подлинность счетов и расписок, чтобы засадить всю семью за решетку!
Он знал, что Аугспургеры всегда жили как на биваке, с нераспакованными вещами, и могли скрыться в любую минуту. Поэтому шевалье не стал откладывать визит и направился к ним на следующий день, не желая обнаружить пустой особняк или встретить в нем ни в чем не повинных людей. Дом их находился неподалеку от Пэлл-Мэлл, но Казанова дважды заблудился в путанице улиц и переулков вокруг Сохо-сквер и плутал до тех пор, пока вдруг не понял, что вышел на площадь с противоположной стороны. Добравшись до особняка в пять часов пополудни, он обратил внимание, что короткую узкую улицу покрывали полосы тени, хотя солнце светило еще очень ярко.
Он поднялся в гостиную и поцеловал воздух над рукой мадам Аугспургер.
— Мир так тесен, мсье… шевалье.
— Да, мадам, он не больше мраморной плиты.
Они сели и заговорили по-французски. На огне кипел чайник. Кроме них в гостиной присутствовали две тетки Шарпийон. Издали эти худые женщины с длинными костлявыми руками напоминали двух стражей у врат смерти на египетской погребальной фреске. Одна из них сняла висевший на шее ключ и открыла ящичек для чайной заварки. Их молоденькая придурковатая на вид служанка накрыла на стол и подала сахар. За окном сгустились сумерки, надвигался вечер. По комнате летала оса. Чует сахар, сказала мать. Нравится ли мсье жить в Лондоне? Не слишком ли здесь много дыма? Надолго ли мсье решил остаться? Ну, хотя бы приблизительно? Тогда, мы надеемся, что он привыкнет к Англии и не будет считать себя чужаком.
Казанова потрепал рукава парадного кремового камзола с вышитыми серебром виноградными листьями. Он выдернул нитку и продолжил беседу, отвечая то теткам, то матери, а потом учтиво обратился к бабушке, которую привела в гостиную служанка и усадила в кресло. Ноги старой дамы на несколько дюймов не доставали до ковра. Он отдал должное экономному ведению хозяйства в доме. Женщины хорошо справлялись со своими обязанностями — тетка номер один аккуратно насыпала заварку в чайник, а тетка номер два следила, сколько угля бросила в огонь служанка. Вещи показались ему изящными, хотя отнюдь не новыми, и походили на своих хозяек. Немолодые дамы выглядели так, словно привыкли голодать неделями, лишь бы их юная нимфа могла ни о чем не заботиться и наслаждаться остатками былой роскоши.